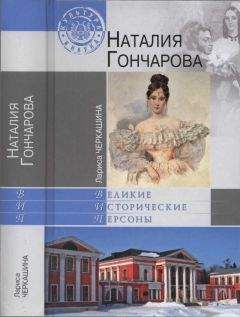Ознакомительная версия.
Как сложилась бы биография, не сомкнись мое дежурство по классу в форме мытья тряпки, интерес завуча к количеству отличников в первом «Б» в форме диалога возле девичьего туалета, предпочтение шекспировского тома всем остальным за тисненную золотом обложку, то есть снова по форме? Короче, все то, что называется единством места и времени и составляет ту форму, которая пинком предъявляет содержание…
Пошла бы я, весело прихрамывая, по крутой тропинке под названием «извольте дать все, что мне полагается», не уверься семилетними ушами, что награды бывают не «для», а «за», или вступила бы в партию, в которой медицинский диагноз заменяет таблицу умножения, декларацию прав человека и таблицы эфемерид?
На моих глазах армии людей разрушили собственный потенциал, объевшись и перекормив окружающих не то что физическим недостатком, а даже длинным носом, маленькими глазами или детским стрессом. Они сделали этот длинный нос, маленькие глаза или детский стресс профессией и национальностью и похоронили себя и собственных детей под их тяжестью.
Главный урок Ирины Васильевны, подслушанный из туалета для девочек, спас мне жизнь. Из туалета, имевшего собственный образовательный статус, из туалета, в котором в восьмом классе мы обучали друг друга курить, в девятом – листать порнуху, а в десятом – правильно стонать во время полового акта.
Что касается школьных учителей, то Ирина Васильевна была первым и последним везением, остальные унифицировались во мне в единую тетку, истомленную тяготами быта, ненавистью к детям, собственной сексуальной невостребованностью и страстным желанием, чтобы с учениками случилось то же самое. Львиную долю частотного словаря этой тетки занимало «все знают, что бывает с девочками, которые носят сережки с шестого класса», «я не начну урок, пока все не снимут кольца и не смоют ресницы», «собери волосы в хвостик, ты пока еще не в публичном доме» и производные от них. Сексуальная революция набирала обороты, и противник агонизировал.
Неутоленная жажда ученичества гнала из «семьи и школы» на улицу. На улице уже мелькали смутьяны. Первыми явились музыкальные фарцовщики. Прокравшись на традиционную толкучку на Ленинских горах, мы с подружкой пожирали глазами длинноволосых джинсовых мужиков в небрежных меховых жилетках с американскими пластинками под мышкой. «Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст», – знали мы о них в восьмом классе со слов Сергея Михалкова. Очень хотелось вслед за ними «продать родину», понимаемую как необходимость быть ежесекундно униженной семьей, школой и тем, на чем они росли. В качестве первой акции по «продаже родины» я выбрала смену одежды. Мы с подружкой Женькой долго работали над отпарыванием рукавов со своих детских шуб и приданием туристическим штанам из «Детского мира» вида джинсов с прошлым. Намеченная акция состояла из переодевания в оное и торжественного прохода из моей квартиры в Женькину мимо школы, естественно, когда взрослые на работе.
Тщательно экипировавшись, мы вышли, взявшись за руки, спустились с четвертого этажа, встретили первую тетку, пообещавшую нас немедленно сдать в милицию на основании внешнего вида, и Женька зарыдала.
– Пожалуйста! Пойдем домой, я так не могу! У меня не получится, – зашептала она, и в прекрасных глазах появилось такое страдание, что я вручила ей ключ и доблестно провела мероприятие в одиночку. Женька была из семьи военного, в которой главным милитаристом была жена военного. За Женькиной успеваемостью можно было проследить, глянув на ее коленки. После каждой тройки матушка запирала в шкаф капроновые чулки и уносила ключ на работу, а после двойки доставала ремень. Стоит ли назидать о том, что после школы Женька пустилась во все тяжкие. Но тогда, возле дома, она отказалась от убеждений с той же легкостью, с которой впоследствии подруги часто оставляли меня доедать сваренную вместе кашу в одиночестве, удовлетворившись дивидендами причастности. И это было уроком, и я благодарна за него.
В девятом классе я попала в Школу юного журналиста при университете, где экзальтированные аспиранты, студенты, а то и просто исключенные по аморалке, выдаваемой за крутую антисоветчину, вешали пишущим детям лапшу на уши. Самым ярким представителем жанра был Володя, нереализовавшийся скрипач, журналист, библиофил, а впоследствии и режиссер, он переживал период нереализованности как социолог, но за неимением собственного багажа читал и давал нам конспектировать лекции профессора Левады, скандально уволенного из университета. Мифологизированный подростковым сознанием Левада, выученный наизусть за причастность к оппозиции, представлялся Солженицыным в квадрате. С таким же успехом мы учили бы таблицу Менделеева, убеди кто-нибудь в наездах советской власти на великого химика.
Но учиться все равно хотелось до изнеможения, наморщив от усердия лоб, у кого угодно, сутками напролет: «… сапожком робким и кротким за плащом рядом и рядом…»
Я училась одеваться в вязаные майки, вплетать бусинки в косички и объясняться в милиции – у хиппи, разговаривать с официантами, опускать глаза в бокал шампанского и устало рассказывать о личной жизни – у проституток кафе «Московское», читать стихи в пьяных компаниях, подвывая под Ахмадулину, – у андеграундных поэтов, разговаривать с попутчиками в метро, употребляя слова «экзистенциальный» и «трансцендентность», – у начинающих журналистов, садиться голышом на стул в скульптурной мастерской и, вместо того чтобы умирать от страха, басом говорить «мужики, вы меня простудите» или «если бы не деньги, сидела бы я тут перед вами с голым задом» – у пожилой спившейся натурщицы, учительницы, кстати, в прошлом…
Учеба предстояла по двум направлениям: на профессию женщины и на профессию личности, вместе эти образования тогда еще были непопулярны. «Дипломированную» женщину комфортнее всего было созерцать с закрытым ртом, а «дипломированную» личность женского рода – вне визуального ряда. Дозволения на оба ремесла одновременно общество выдавало крайне редко, и исключения несли на себе такую психологическую нагрузку, что их непременно вывихивало из золотого сечения. Карьеры, сделанные телом, подмачивали самооценку, а преуспевшие ортодоксалки ощущали пол не собственной, а напрокат взятой одеждой. Таким образом, в учителя годились только мужчины как существа наиболее гармоничные на данный исторический момент.
Собственная хромота стала занимать в голове еще меньшее место, чем в школьные годы, выбор жеста и поступка определялся уже «гражданской позицией», а не чувством неполноценности, что было особой формой кокетства с биографией. Отказавшись вмонтироваться в комсомол, я решила вписаться в хиппи, причиной чего считаю сумму здоровых инстинктов и нездоровое выведение оппозиционных персонажей из зоны критики. Что до комплекса неполноценности, то судьба, повинившись в моей хромоте, предложила компенсацию в виде фактуры. Экспериментальный опыт подтвердил, что на мой внешний вид возбуждаются восемь мужчин из десяти без всяких усилий и девять из десяти – с приложением минимальных усилий. Картину портили ортопеды, возбуждающиеся исключительно на мою правую ногу.
– Еще парочка операций, и вы будете ходить нормально! Думайте, деточка, думайте, вам ведь замуж захочется! – подбирались они, сладострастно разглядывая мои рентгеновские снимки. – Еще немножечко подрежем, подпилим, подцементируем – и в балете танцевать будете! – В балете мне танцевать не хотелось, да и два года, проведенные на больничной койке, в гипсе и на костылях, мало манили в сторону продолжения отношений. Первую операцию мне сделали в интересах диссертации лечащего врача, вторую – машинально, конвейерно, в комплекте с сепсисом и угрозой ампутации ноги. Люди эти продолжали любить резать и пробовать, но мне казалось, что я уже внесла достаточное пожертвование собственным телом в их профессиональное любопытство. Последний охмурял меня накануне первого замужества, злобно тыкая пальцем в мое бедро.
– Вы – дура! Вы самоуверенная малолетняя дура. Вы не понимаете, что это значит! Это значит, что однажды вы остановитесь среди улицы и больше не сможете сделать ни одного шага! И хорошо, если вас привезут ко мне, я соберу вашу ногу, а нет – вы будете ходить на костылях! И не дай вам бог забеременеть, это только все ускорит! Вам больно ходить! И не врите, что не больно! Вы ходите не на суставе, а на энтузиазме! Моя бы воля, я бы вас сейчас связал и кинул на операционный стол! – Мне действительно было больно ходить, но я поставила на свой энтузиазм, а не на его профессионализм. Профессор давно умер, а мои сыновья-близнецы, родившиеся с общим весом шесть с половиной килограммов, уже учатся в университете. И я благодарна этому человеку, потому что внутренняя борьба с его авторитетом была для меня огромным уроком.
Возлюбленные обучали меня щедро и разнообразно. Первый был замечательным художником-авангардистом, кормящимся на создании партийных плакатов. Он научил меня варить хороший кофе, поддерживать светскую беседу во взрослом обществе, относиться к собственному телу как к эстетической ценности, подрабатывая натурщицей, и еще тому, что тридцатилетний мужчина может спать с пятнадцатилетней девочкой, не отягощая ее даже ликбезом о противозачаточных способах.
Ознакомительная версия.