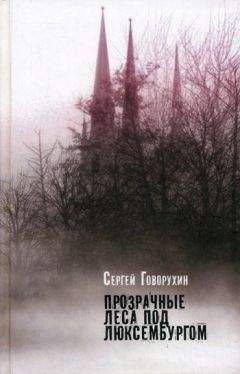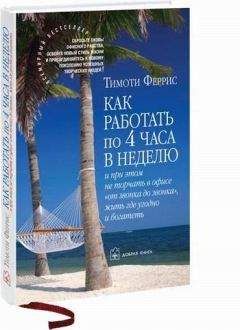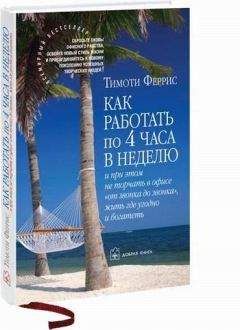– Я не знал…
– А что мы вообще знаем друг о друге…
Четыре месяца спустя Геркин сын умер от рака – деньги, вырученные за квартиру, уже ничего не могли изменить в его судьбе.
Мы, как и прежде, собирались по большим праздникам, пили, перебивали друг друга, произносили дежурные, давно никого не трогающие тосты, недоумевали над Геркиным решением: как он там один в этой чертовой Шумихе, где все надо начинать с чистого листа. И зачем было квартиру продавать – неужели не скинулись бы, не нашли деньги сыну на лечение.
А он и уехал от всех нас, освоившихся, подернутых глянцем благополучия, обросших требовательными женами и позабывших, как нас расстреливали со склонов Кандагара и в вязи поднимаемой рикошетами пыли мы кричали товарищу охрипшими голосами:
– Брось мне рожок! Я пустой!
И не было на свете ничего дороже тридцати промасленных патронов в глухом пенале автоматного магазина.
Редко, стараясь не надоедать лишний раз, он предлагал:
– Может, встретимся, посидим. Я тут одну кафешку знаю…
– Конечно, – буднично отвечал я. – В понедельник созвонимся и пересечемся где-нибудь…
Только этих понедельников в году было больше пятидесяти… И не хотели они размениваться на совместно распитую бутылку в захолустной Геркиной кафешке. О чем говорить-то? Жизнь слишком диаметрально развела нас по разным ступеням социальной лестницы. И какое имело значение все, что было до этого…
Два года назад он приехал на День Победы. Восьмое мая провел с внуком в зоопарке, по-детски хохоча над гримасничаньем обезьян и вальяжностью напыщенной пумы, а вечером, прикалывая награды к пиджаку, неожиданно обмяк и странно, боком завалившись на диван, уронил и разжал руку в уже безжизненном движении…
И, словно последним посланием всем нам, тяжело лег на пол орден Красной Звезды – самое дорогое, что оставалось в его жизни.
Почему именно здесь, в Люксембурге, я с такой острой болью вспомнил о нем? Здесь, за тысячи километров от Шумихи – продуваемого ветрами городка на задворках России.
Герка говорил, что там могилы его родных. К этим могилам он и уехал. От нас, живых.
Бытовые мелочи… Как явственно стоят они перед глазами: бумажные, подаренные матерью иконки, которые ты складывал в дальний ящик стола за ненадобностью, первые рисунки сына, порванные при разборе бумаг, – ну, дерево, ну, солнце, человечек, и еще десяток таких же деревьев и человечков, штабеля рубашек в Геркином чемодане и верхняя из них, с перелицованным воротником…
– Спасибо тебе, – сказал я Фредерике, когда мы вышли из костела. – Только не спрашивай, за что, ладно?
– Ты вернулся к своим, – глядя перед собой, произнесла она. – Я хотела и не хотела этого. Теперь ты ближе к ним и дальше от меня. Но так лучше тебе…
– Мне было бы лучше, если бы все были рядом: и ты, и они…
– Так не бывает. Остается что-то одно, – сказала она и пошла вперед.
Я смотрел ей вслед и думал о том, сколько за эти годы прошло через меня родных, близких, единственных. Прошло и ушло безвозвратно, а я физически, до боли в суставах ничего не мог этому противопоставить. И вот теперь уходит она…
– Фредерика! – отчаянно крикнул я.
Она резко обернулась на мой крик, сделала шаг навстречу и остановилась.
Так мы и стояли, разграниченные проезжей частью улицы, дома которой можно задевать плечами…
Вечер мы провели в холле гостиницы. За третьим столиком от барной стойки.
Постояльцы отеля спускались в бар, заказывая кофе, пиво, джин с тоником или коньяки из стоящих особняком дорогих бутылок. Они приходили на полчаса, час, пили, возвращались в номера, а место за столиками уже занимали другие: шумные, раскрепощенные, как подавляющее большинство европейцев.
И в этой череде лиц заключалась спасительная для нас с Фредерикой суета – сегодняшним вечером нам нельзя было оставаться наедине. Слишком неотвратимо приближалось отрезвляющее утро следующего дня, в котором мы должны были расстаться навсегда.
– Эти девять свечей – они кому? – задал я мучавший меня вопрос.
– Всем, кто был у меня, – отстраненно произнесла Фредерика, – отцу, маме… У нас была большая дружная семья: дядюшки, тетушки, сестры…
– Что значит была? У тебя что, никого нет? – ошеломленно спросил я.
Она подняла на меня глаза.
– У меня есть ты…
Что я мог сказать? Она была у меня, я был у нее. Но это были наши последние несколько часов. Даже не сутки…
Сейчас нам вновь было необходимо выпить, и я жестом поманил официанта, указав ему на пустые стаканы.
– Может, возьмете сразу бутылку, – плохо скрывая раздражение, проворчал официант, возникнув у нашего столика с очередной, по-моему, шестой порцией виски.
– Месье, – Фредерика взяла с подноса стакан, сделала внушительный глоток и жестко отчеканила что-то по-французски.
Официант побледнел и испарился.
– Что ты ему сказала? – спросил я.
– Я сказала, чтобы он шел к чертовой матери. В самых изысканных выражениях, конечно.
– Не так-то просто отыскать ее адрес в этом городе…
– Ничего, он найдет… Тебе в самом деле понравился Люксембург?
– Я влюбился в него. Как когда-то влюбился в Москву, увидев ее впервые. Только тот щенячий восторг сменился разочарованием, а Люксембург… Я никогда не встречал таких городов…
– Когда-то этот город открыли мне, я – тебе, а ты откроешь еще кому-нибудь…
– Что-то я не в восторге от этой эстафеты, – зло сказал я. – Это наш город. И я ни с кем не собираюсь его делить.
– Не злись. Я ведь, как и ты, не знаю, о чем говорить… Как все было просто еще несколько часов назад…
Она была права: как все было ясно и понятно утром. Два человека случайно встретились на пересечении одного меридиана. Им надо было куда-то деться: ее одиночеству и его неприкаянности. И тогда они совершили путешествие в изумрудный город, примиряющий со всеми горестями на земле.
Кто мог предположить, что мистические полюса Люксембурга до такой степени притянут нас друг к другу. Всего за один день. День, который мы еще не прожили до конца…
– Давай выпьем, – предложила Фредерика. – Хотя толку от этого виски никакого…
Виски не действовал. Ни на меня, ни на нее. Может, и прав был официант, предлагая нам взять бутылку.
– Что ты будешь делать, когда вернешься домой? – спросил я только для того, чтобы что-то спросить.
– Знаешь, почему я не курю? – внезапно ожесточенно сказала Фредерика. – Потому что надо выходить на улицу, в специально отведенные места… А я не хочу никуда выходить. Я хочу курить здесь и сейчас. Хотя бы для того, что иметь время для ответа на твой вопрос.
И я вновь поймал себя на мысли: как все, что говорила и делала Фредерика, было созвучно всему, что говорил и делал я.
Задумчивая, взбалмошная, трогательная, со слезами и без слез, и такая, как в эту минуту, – вспыльчивая, не пытающаяся владеть собой, – она с каждой минутой становилась все больше и больше необходима мне. Необходима, как глоток чистого воздуха на промытых дождем люксембургских улицах, подаренных мне Фредерикой. И этот вошедший в мое сердце город в одно мгновение оказался разоренным, обезличенным и совершенно ненужным без нее…
– У меня дома можно курить где угодно. На балконе, в комнате, на кухне. Правда, я не курю, но это не важно. На балконе два плетенных кресла, столик, кофейник, магнитофон с джазовыми композициями, – говорила Фредерика, не замечая наполнявших ее слез. – А с балкона потрясающий вид на город. Особенно по утрам…
Она брала щипцами кубики льда и машинально опускала в свой стакан. Один, третий, пятый, седьмой кубик…
Подняла заполненный льдом стакан и, глядя мимо меня, сказала:
– Я вернусь домой и буду учиться жить без тебя…
В номере мы не разбирали постель. Нам казалось невозможным то, что так легко и непринужденно случилось прошлой ночью, – мы лежали поверх покрывала на подоткнутых рядом подушках и молчали.
Нам было необходимо многое сказать друг другу. И в тоже время обреченность наших отношений делала бессмысленными любые слова…
Я не знаю, о чем думала она. О том, что никогда не сможет вернуться в Люксембург, потому что была счастлива в нем со мной? О том, что я привязан пуповиной к своей неустроенной, равнодушной ко всему на свете родине, детям, близким, памяти тех, кого потерял и кого мне еще предстоит потерять, тысячам и тысячам проблем, которые невозможно отсечь одним взмахом руки?..
А может, этой второй и последней нашей ночью, прислонившись к моему плечу, она уже училась жить без меня. Я не знаю, о чем думала она. Я знаю, что мы думали об одном и том же. Она – по-своему, я – по-своему. Но об одном и том же…
Я резко повернулся к Фредерике, прижал ее к себе и зарылся в ее волосах.
Она обвила меня руками и стала исступленно целовать, горячо шепча незнакомые, не требующие перевода слова.
Так мы и заснули в ту ночь. Я и мой ангел. Как засыпают все: счастливые и несчастливые, благополучные и одинокие, вспыльчивые и уравновешенные…