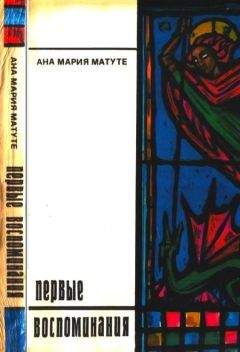— Все?
— И больше не возвращаться. Сбежать.
Хуан почти ощущал кожей прерывистое дыхание. Андреса, оно казалось мольбой.
— Не слушай его, Гальго… Он сейчас не в себе… он сам не знает, что говорит…
— Молчи, Андрес! — Хуан схватил его за руку и так сильно сжал, словно хотел оторвать; к горлу подступил отвратительный комок.
Гальго достал портсигар, раскрыл его и дал им сигареты со сладким ядом.
— Ладно, пусть придет в себя.
И они в первый раз закурили сигареты Гальго, и в первый раз услышали от него про звезды. Но про другие звезды. Совсем не про те, которые знали.
IX
Они курили неделю, а может, и больше, и уже знали много звезд. Никогда прежде Хуан не думал столько о вселенной; никогда прежде, глядя на зеленое, звездное небо, не чувствовал себя таким прикованным к нему, прикованным навечно. Никогда не думал столько о бесконечном, обволакивающем сиянии, которое стелилось вокруг одинокого мальчика, лежащего на траве. Об этом сиянии звезд, об этом бездонном колодце, об этих бесчисленных взглядах, устремленных на его хрупкое тело. Об этой жестокой вечности.
Временами он вспоминал в полузабытьи о том времени, когда еще маленьким его отвезли на ферму, в Андалузию, и однажды ночью там начался пожар. Но его поразил не самый пожар, ведь он постоянно полыхает под землей, и ему потребовалось лишь вырваться наружу сквозь земную кору, а то, что люди, казалось, не знали этого. Когда пламя охватило дома, заборы, солому, деревья, Хуан удивился, что это было неожиданностью для людей. Ведь он каждый день предупреждал их своим невразумительным детским лепетом; но никто не принимает всерьез ребенка, не прислушивается к нему (и лишь говорят: «Поцелуй меня!»). Но все эти поцелуи, наверное, теплились где-то в глубине, как большой пожар, и на рассвете вырвались наружу. Во сне он часто вспоминал звон колокола, крики людей, бегущих к колодцу, и то, что так и не смог забыть: коня, перепрыгивающего через ограду, объятого пламенем, и его огненную гриву, полыхающую на ветру. В порывах ветра пламя разгоралось все сильнее. А потом у своего окна с голубыми жалюзи Хуан увидел загоревшиеся, поднятые кверху копыта и услышал ржание, пронзившее тишину ночи. Теперь конь виделся ему только во сне. И если иногда днем Хуан спрашивал об этом у мамы, она прерывала его: «Это тебе приснилось, сынок, всем детям снятся кони».
Но ведь не горящие, прекрасные, неумолимые, как вершина, усеянная звездами — несообразными, математическими, логическими, жестокими, нежными и невероятными!
Гальго, зачем ты пришел? Зачем ты пришел, Гальго? В бабушкином календаре теперь записаны названия звезд, которые мы услышали от тебя, словно непристойные, запретные слова. Но нет, все это неправда, а может, это печальные, мудреные истории дона Анхелито. Я бы расцеловал на рассвете цветы, даже противные, испачканные илом ирисы; я простил бы даже девчонок, но я не могу простить тебе, Гальго, что ты пришел сюда, к стене гелиотропов, грязный и потный, скользкий и голый, и так много рассказывал о туманных огоньках и мутных стенах, о разорванных вуалях — двум мальчишкам, которые прежде говорили только о своих проделках, стоя у пролома в стене, где дедушка назначал свидания женщинам.
Андрес сказал, что ты знаешь другой дом, недалеко отсюда, где надо пробыть всю ночь до утра. Он говорит, что мы могли бы войти туда. И что дом этот совсем не похож на дедушкину хижину. Мы так бедны рядом с тобой, Гальго.
Как-то раз мама показала мне фотографию собора, но я не смотрел на него, я видел лишь ангела: его пустые, белесые глаза и толстые ноги. Он будто предупреждал меня, высоко занеся огненный меч, что бог ушел. И мне было очень страшно, потому что за месяц до этого я принял первое причастие и молил бога сжалиться надо мной, над служанками, над почтальоном, над мамой, над стариками и вообще над всем миром, потому что так нас учили на уроках закона божьего; нам внушали, что в мире сейчас происходит такое, что только божья милость может его спасти. Я смотрел на этого толстого ангела, который жил еще тогда, когда не надо было просить о милости, и сказал себе: «Хуан, Хуан, скверный десятилетний мальчишка, который принял первое причастие так поздно потому, что мама знает, насколько неразумен ребенок в семь лет, а разумом мы пользуемся так же, как одеждой, как прозрачными, смятыми комбинациями, которые я вижу в корзине для грязного белья (хоть детям и не положено на них смотреть); как пользуемся билетом, который я нашел однажды на станции метро, а контролер сказал мне: „Ах ты, мошенник, он уже использован, плати штраф“…» Я смотрел на толстого ангела, высоко занесшего над собой меч, так как он знал, что дети — плохие, и потому бог ушел.
Гальго, зачем ты пришел?
Мама говорит, что девчонками они покупали непотребные открытки — какой ужас! — с погашенными марками. Но, слава богу, Хуан будет учиться в порядочной школе, а не торчать здесь, в этом доме, где все пропитано развратом, здесь ей душу искалечили, исковеркали сердце. И, держа в руках прозрачную комбинацию, Хуан представляет себе сердце, но не человеческое, а цыплячье, коричневое, вываренное, в которое впиваются зубами. Мама, не плачь, мама, я буду любить тебя, когда вырасту.
Гальго, как хорошо нам было вдвоем с Андресом. И тех денег, которые я таскал из дедушкиного комода, нам вполне хватало. К тому же мы потешались над переживаниями дона Анхелито, а теперь он нас больше не интересует.
Какое нам теперь дело до того, что дон Анхелито мог бы рассказать, как обошелся дедушка с женой угольщика в тополиной роще, где у него была хижина с кроватью? Эта история, столько раз рассказанная им, мало походила на правду. Если бы здесь было море, оно унесло бы далеко, далеко на своих волнах всех их, вздутых, почерневших, почти без кожи, как утопленника, которого он однажды видел. Но моря здесь нет, и нет горящих коней, здесь только мальчишки, заглядывающие в окошко хижины в глубине тополиной рощи, отодвигающие рукой паутину, чтобы лучше рассмотреть то, что внутри. А на двери висит позеленевший, заржавленный замок и не дает им войти.
X
Приблизительно на четвертый день Андрес сказал:
— Ну что ж, раз нельзя, значит, нельзя. Там на двери вот такая шпорища, чтобы войти, надо ее сбить, а если ее сбить, знаешь, что потом будет Хуану?
Андрес говорил это уже раззадоренный Гальго, ему не терпелось увидеть, как Хуан засмеется и, не в силах сдержаться, проговорит:
— Мне? А что мне может быть?
Гальго подталкивал их в гущу колючек, которыми заросла роща; они впивались им в бока, стоя на страже старых обычаев, порядков, привилегий того, кто еще способен был перебить всех дроздов и летучих мышей, ожесточить всех мальчишек.
Хижина и роща как бы уменьшались, будто за эти четыре дня весь ночной мир сжался.
— Это здесь старик обделывал свои делишки. Черт возьми, мог бы и раскошелиться, — сказал Гальго.
Но когда сбили висячий замок (или шпорищу, как назвал его Андрес) и хижину осветили карманным фонариком, Гальго онемел от изумления: кровать здесь была умопомрачительная — с золотыми узорами, красными розами и львиными лапами, тусклыми от пыли. Из-под матраца торчали уже заржавевшие пружины и клочья сгнившей шерсти, а сам матрац напоминал плащ поверженного, истекающего кровью короля, раненного в пустыне. Гальго устремился к матрацу и рухнул на него, как подрубленное дерево. Туча насекомых: золотых, синих, зеленых — целая армия увядших звезд — взметнулась вверх к паутине, этим зловещим ловушкам, покачивающимся от малейшего движения дикаря, который никогда не был мальчиком. Лежа на матраце и задыхаясь от смеха, он сказал, обращаясь к Хуану:
— Приведешь сюда свою маму? Она еще ничего.
Хуан испугался, что Гальго говорит всерьез, а он не сможет этого сделать, потому что давно уже не существовало ни зелья, ни колдовства, с помощью которых дон Анхелито (судя по его рассказам) подносил дедушке женщин на золотом подносе. Всего этого уже нет. Разве только мамины снотворные таблетки. Но они не помогут. Да и мама где-то далеко. Возможно, он еще когда-нибудь ее встретит, но скорее всего потерял навсегда: она висит на телефоне и мечтает создать новую жизнь, находясь в плену у зеркал, перед которыми расправляет юбки и причесывается. И мимолетное желание защитить ее тут же погибло, раздавленное множеством разумных доводов, рассуждений о порядочной любви, поцелуев на рассвете и перед сном, упреков и ласковых слов.
— Принеси бутылку, — сказал Гальго, хотя пьяницей не был.
В тот вечер они как бы заключили между собой союз и скрепили его, отхлебнув по очереди из горлышка.
XI
Дом, который знал Гальго, казался более реальным, более заманчивым по сравнению с хижиной в тополиной роще. И хотя они ходили туда всего два раза, дон Анхелито узнал об этом, увидев их, и примчался взмыленный к стене гелиотропов, после того как дон Карлос ушел, собрав книги. Он сказал им: