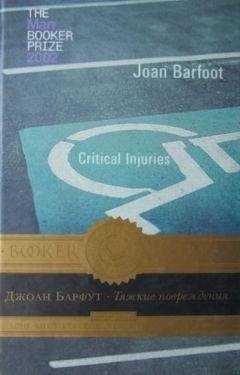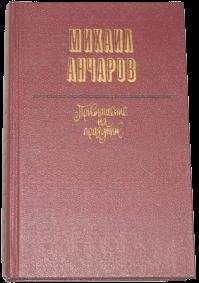— Привет, — говорит он. — Быстро все, да? Тебе страшно?
Остальные приходят со всевозможными ответами, уверениями, просьбами, оценками и обещаниями; Лайл приносит вопросы. Он знает, что нужно вслух задать правильный вопрос, это — часть его кожи.
Страшно? Еще как: целый фейерверк ужаса, минные поля страха, напряженный хаос. Или напряжение — слишком мягкое слово, оно применимо только к дешевому кино и минутным убыстрениям пульса? Нет, напряжение — это чистый сухой лед незнания. От него сердце останавливается.
— Я в ужасе. И даже не знаю, на что надеяться.
— Ну это очевидно, ты так не считаешь? Потому что с жизнью можно что-то сделать. Пока ты жива, мы сможем что-нибудь придумать.
Не только правильный вопрос, но и правильный ответ. Но неужели он не боится таких серьезных обещаний?
— А ты как?
— Страшно ли мне? Господи, конечно, я в камень превратился в ту секунду, когда услышал выстрел. По-моему, после этого не было ни мгновения, когда мне не было страшно. Даже во сне. Даже сны мне снятся страшные.
Они так мало времени проводили вместе, вдвоем, и большая его часть ушла скорее на мужество, чем на откровенность. Он привык действовать, исправлять, делать что-то, что изменяет любые обстоятельства.
— И еще я очень, очень зол. А ты?
— Была. Может, потом снова буду, но мне кажется, что сейчас это опасно. Это повредит скорее мне, чем кому-то еще.
— Ты говорила с Аликс.
— Да. Она меня изумила.
— Что ты об этом думаешь?
— О ее планах? Счастлива, как никогда, что она уходит из этой несчастной секты. Не знаю, что и думать о том, что, как ей кажется, она видит в этом мальчишке. Разве что, — и она усмехается, глядя на Лайла, — кому-то из нас следует серьезно заняться проблемой прощения, и она, бесспорно, самый подходящий кандидат.
Он тоже улыбается и снова тянется погладить ее по голове. На этот раз она не вздрагивает.
— Что тебе снится? — спрашивает она. Сама она снов не видит, по крайней мере, не помнит: хотя, возможно, под действием лекарств ей что-нибудь и виделось время от времени.
— Правда, хочешь знать? Часто снится, что я парализован. Это безвкусно? Тебя это оскорбляет? Снится, что пытаюсь шевелиться, бежать, бороться, спасаться, все в таком духе. А потом просыпаюсь весь в поту. Наверное, от беспомощности. И не понимаю, как ты можешь это выносить.
— Я и не могу.
Она думает, что не смогла бы никому другому это сказать.
— Осталось совсем немного. Чуть-чуть потерпи.
Да. А что потом?
— Знаешь, если ты не сможешь терпеть, я не стану тебя винить. Если все будет слишком сложно.
Как она вздрагивает, когда внезапно раздается громкий хохот — от души, по-лайловски, весело, запрокинув голову; такого она не слышала уже давно.
— Ты что, хочешь сказать, если я слиняю, ты меня не станешь винить? Ох, Айла, какая чушь. Не надо мне вешать лапшу, даже не пытайся.
Она тоже смеется; по крайней мере, издает негромкие, пыхтящие звуки, которые у нее в настоящий момент означают веселье.
— Хорошо, без лапши. Было восемь чудесных лет. Спасибо тебе.
— У меня тоже. Но и плохого за эти годы было порядком, согласна? Мы же не хотим представлять все в розовом свете?
— Конечно нет. Никакого розового света.
— Итак: ни лапши, ни розового света. Я хочу тебе сказать, я хочу, чтобы ты знала, что я без тебя своей жизни не представляю. Я до чертиков рад, что встретил тебя. Уже одному этому. И я ничего подобного не ожидал, поэтому оно — еще большее чудо.
Именно. Для нее тоже. Этот глупый, беспечный мальчишка. Палит по чудесам, навылет простреливает любовь.
— Теперь ты знаешь, что я не слиняю, знаешь, чего бы я хотел?
— Чего?
— Я бы хотел остаться здесь. Просто разговаривать с тобой всю ночь. Может, заснуть на этом стуле. Держать тебя за руку — я знаю, знаю, что ты этого не чувствуешь, но я-то чувствую, — и просто болтать. И молчать. Пока коров не пригонят домой.
— Или пока санитары не придут.
— Это одно и то же.
— Последняя ночь вдвоем?
— Нет, просто ночь. Я не знаю, как ты, а я не хочу, чтобы мне снились эти сны, и не хочу такой, знаешь, жуткой бессонной ночи, темной ночи души, как говорится. Просто хочу посидеть с тобой. Но если хочешь побыть одна, просто скажи, без лапши.
Что ж, он прав, ей могло бы хотеться побыть одной, со всем разобраться, привести все в порядок: но едва ли можно все аккуратно упаковать и тщательно подготовиться к невообразимому и неуправляемому.
Кто знал, что все сведется к нескольким часам, потом к нескольким минутам, а потом — к чему?
— Мне бы тоже этого хотелось. — Она смотрит вверх, в его страдающие, встревоженные, добрые глаза. — Я не знаю, что бы со мной стало без тебя, и не представляю, с кем бы охотнее скоротала ночь, любую ночь, а эту в особенности.
Она думает, что может быть и так, что общие для них большие и маленькие, жестокие и прекрасные и обыденные события, ставшие словами и историями, обращенными во тьму, к утру вырастут в надежный, оберегающий, безопасный заслон. И что бы ни случилось потом, сегодня они могут что-то создать из своих восьми лет, из кусочков и деталей, разбросанных и забытых, или любовно хранимых, или тех, о которых только мечталось, на которые все еще есть надежда. Каждое слово как кирпичик.
— Помнишь дождь? — начинает она. Потому что дождь возвращает их к самому началу.
Спасение, как и все остальное, в основном, как она представляет, дается небольшими мерами, вроде этой. Еще она представляет, что он держит ее за руку, и полагает, что это — нечто замечательное, и было бы потрясающе здорово это ощутить.
В тюрьму приходит не слишком много писем, но те, что приходят, — это нечто. Дэррилу пишет какая-то девчонка из района, где он жил, и по ночам в камере он вслух читает их Родди.
— Братан, — говорит он, — прикинь, ей всего четырнадцать. То есть ей где-то одиннадцать было, у нее и титек-то не было, когда я ее последний раз видел, и ты только послушай. — Он выдает пару абзацев о том, что она и Дер могли бы делать с ее грудями. — Здоровые они у нее, видать, — говорит Дер.
У Родди встает уже от того, что он слушает, как она расписывает, как Дер мог бы вставить между ними и кончить. Но еще он помнит, что Дер рассказывал ему в первый вечер о своем предыдущем сокамернике, который дрочил по шесть раз за ночь. Только вот он слышит, как Дер сам делает то же самое чуть позже, после отбоя.
С этим делом тут беда. Бывает и еще кое-что, он считает, по-другому и быть не может, но в основном ребята просто спускают пар, как Дер, как сам Родди, если на то пошло, по ночам, или с остекленевшими глазами в душевой, кругом пар, а они мылят себя на глазах у всех, и потом все улюлюкают и шуточки отпускают, потому что ни о каком уединении тут все равно мечтать не приходится.
Да, и Родди тоже. Как-то привыкаешь ко всему этому. И ничего с этим не поделаешь, и с собой тоже.
Если бы все не пошло наперекосяк, если бы получилось с «Кафе Голди», если бы они, в конце концов, уехали с Майком и нашли бы себе квартиру в высотном доме, чтобы стены были стеклянные и две спальни, и ходили бы, куда собирались, то все могло бы происходить на самом деле: настоящие груди, настоящие бедра, настоящая кожа и другие настоящие, обалденные, незнакомые места. Его бы было не удержать. Его и так не удержать. Ему же семнадцать, непонятно, что ли.
Дэррил хоть знал или хоть видел ту девчонку, которая ему пишет. Ему и другим пацанам приходят письма и от совершенно незнакомых девчонок, они предлагают всякое, но еще и вопросы задают, и обещают, бывает. Смешно, что письма от незнакомых девчонок приходят тем, кто совершил самые тяжкие преступления — убийства, изнасилования, — куда хуже, чем то, что сделал Родди. Если бы не Дер, он бы, наверное, об этом и не знал. Они все крутые, по крайней мере на вид, но общаются в основном только друг с другом, и за ними все время присматривают, и многие из них почти все время проводят одни, потому что с ними или опасно быть рядом, или они просто подонки, сложно сказать.
Просто Дер тут уже давно, и он в каком-то смысле — один из них, и рассказывает Родди иногда, что и как. Если бы они не сидели в одной камере, он бы, наверное, с Родди вообще никаких дел не имел. Вооруженным ограблением здесь никого не удивишь. Хотя если ты в кого-то стрелял — это уже кое-что. Родди в странном положении, он вроде как посередине, но еще он, осторожно, как только может, склоняется в одну сторону.
Он точно не насильник и даже не убийца, хотя был от этого недалек, и он не может понять, почему кто-то хочет писать насильникам и убийцам, особенно если вообще их не знает. Дер пожимает плечами.
— Всякое бывает. Некоторые из них, знаешь, потом пригодятся.
Он имеет в виду на свободе. Родди так понимает, что некоторые девушки согласны вообще на все.