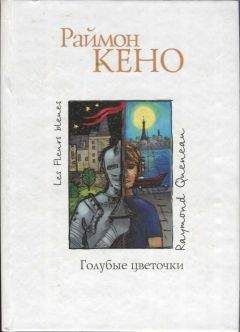жаловался на своих переменчивых спутников Одиссей. Кое-где цвёл шиповник.
Тимофей, в юности раздумывавший над тем, не стать ли ему биологом, и сохранивший кое-какие познания по части флоры и фауны, с интересом отмечал про себя чешуекрылых, порхавших между густыми кустарниками, деревьями и скульптурами:
сонных листовидных носаток, серых, с розовыми и голубыми
пятнышками,
действительно похожих, когда,
сложив створки, они прикреплялись к высоким веткам каркаса, —
на иссохшие его листья;
потом среди травяных стеблей — пятнистых червонцев,
пламенно-красных и тёмно-коричневых
с тёмными пятнами и тёмным же ободом крохотных крыльев;
и ещё отливавших уже неземною голубизной, яркой и в ослепляющем
солнце,
крошечных голубянок-икаров; наконец, — вровень скульптурам —
целый веер летуний:
шафрановых с чёрной каймой на верхних крыльях желтушек,
жёлто-чёрных, прекрасных размахом крыл и полётом,
только что вылупившихся из куколок молодых махаонов,
пылающе-красных — с коричневатым и бурым отливом — бабочек
павлиний глаз;
коричневых в центре тельца и крыльев, с расходящимся красным
кругом
и чёрно-синими навершьями крыл бабочек-адмиралов;
и, наконец, кирпично-красных и чёрных одновременно,
с крохотными белыми пятнышками в навершиях крыльев —
вездесущих репейниц,
куда уж без них!
У многих народов их считают за души покинувших нас. Сколько душ было в этих садах, у дверей иномирья, обращающих мысли к Марине, вожатой в его бестолковых блужданиях по улицам, островам и паркам! К сестре сердца и средоточью желаний. В одной лингвистической книге он вычитал, что название племени древних венетов, давших имя городу, может происходить от корня *u en-, *u en-, означающего “любить” и “желать”. Что ж, пускай и венеты, и Марина, живущая ныне на их острове, будут тем “желанным”, что одушевляет затопленный жаром окрестный мир.
Внезапно, когда, как ему показалось, наступила счастливейшая, самая осмысленная минута, настроение Марины переменилось: “Никто не должен видеть, какие у нас отношения. Ты сегодня ночуешь в гостинице”. — “Посмотрим”, — сказал Тимофей, не понимая от неожиданности, что ему сейчас ответить. “У меня кости ломит. Я так не привыкла. Ты очень большой. Извини. Я тебе позвоню”. И — после паузы: “Пора уделить внимание sselboi sselboi , как говорили древние венеты, во власть которых над моим сознанием ты так упорно веришь”. — “Ты всегда читаешь чужие мысли?” — Марина смолчала. “Что ж, тогда и мне предстоит засесть за доклад: как бы не ударить лицом в грязь”. — “Да, пора”, — подвела итог Марина.
Так вот они и разошлись: в разные стороны.
Часть вторая
ПЕРВОЗЕМЛЯ
I
Невероятная вонь, и так свойственная некоторым мелким протокам Венеции, с утра наполнила город: высохло большинство каналов.
Обнажилась — ступень за ступенью — подводная, морская жизнь.
Вот ползающие по верхней обшивке каналов среди ещё влажных водорослей в ожидании прилива, который придёт невесть когда, бледные крохотные многоножки и мокрицы. Чуть пониже — стайки морских улиток, которых, как слыхал Тимофей, венецианцы едят, отварив прямо в раковинах, как русские раков.
Ещё ниже — прикреплённые намертво к лежащим в каналах камням и к основанию свай усоногие раки-балянусы, укрывшиеся в свои известковые домики, а по соседству — скопления мидий.
Наконец, мелкая рыба, дохнущая в образовавшихся лужах.
Низко летавшие чайки склёвывали добычу, долбили клювами раковины, рвали на клочья рыбу.
По радио и по телевидению передавали призывы сохранять спокойствие и по возможности насладиться необычайным природным явлением.
Интернет сообщал об экстренном заседании городского совета, намеченном на вечер. Должны были принимать решения по столь неожиданной ситуации.
Солнце между тем жгло и жгло. Если его рассматривать сквозь мощный космический телескоп, то можно было бы увидеть гигантские протуберанцы, отходящие, как длинные локоны, от его тёмного ядра.
Тимофей пошёл вдоль высохших каналов. Остатки влажной жизни убывали с фантастической скоростью, оставляя за собой неподвижные раковины, шершавые мёртвые камни и испаряющееся разложение. Казалось, что взгляду предстали не судоходные прежде каналы, а грубо протоптанные великанские дороги, по которым недавно прошелестел ливень. Нечто первобытное рассекло Венецию горячим ножом на десятки дымящих кусков.
Тимофей уже звонил Марине несколько раз: телефон не отвечал до четырёх дня, пока, наконец, сонный голос с того конца провода не сказал отчуждённо: “Извини, я всю ночь не спала...” — “Стоило ради этого отправлять меня в гостиницу?” — “И всё утро. Послушай, я ведь почти не знаю тебя”. — “После четырёх лет знакомства?” — “Всё происходит для меня слишком быстро. Никто не мог предположить...” — “...Что высохнут каналы”. — “И даже Большой?” — “И он”. — “Ты смеёшься”. — “Встречаемся через час у рыбного рынка”. — “Почему там? Сразу видно, что ты не венецианец”.
II
Больше всего всё-таки его изумляла непроходящая вонь, которую распространяли пересохшие артерии города. Так, вероятно, воняла бы стухшая на берегу в большом количестве рыба. Город и был такой разлагающейся рыбой.
Вот не счищенные до конца чешуи парков, вот голова Сан-Марко, вот жабры Риальто, вот упирающийся в континент хвост моста через лагуну.
Они стояли у пустых рядов, где столетиями шла торговля, и вместе с сотней-другой зевак наблюдали, как над остатками обнажившегося до дна Большого канала кружили оравы чаек. Марина была тиха и странно ласкова. Но мысли его сейчас были заняты увиденным. Чайки словно выклёвывали ещё недавно живую плоть из глазниц и жабр выброшенного на мель города-рыбы.
“Чем ты занят завтра?” — “В полдесятого утра встречаю на станции американского коллегу, прибывающего скоростным поездом из Парижа”. Молчание. “Ты понимаешь, это редкая возможность пообщаться вне конференции”. — “У вас никогда ничего не отменяют?” — “А ты не являешься на концерты?” — “Послушай, я вчера скучала по тебе. Я этого не хотела. Не сердись. Пойми: ты скоро уедешь”. — “Почему я должен уехать, да к тому же ещё скоро?!” — “Это произойдёт”. — “Совсем так не думаю”, — спокойно ответил он, глядя на предзакатный пир чаек. “Ну, пойдём тогда ко мне”. — “А ключ от гостиницы мне выбросить в пересохший канал?” — “Повремени: пригодится”. — “Можно хотя бы взять там бритву и зубную щётку?” — “Пойдём”. — Она потянула его за собой.
Близость в этот раз была высвобождающей какие-то другие уровни его существа, точно действовало теперь только тело, всем протяжением мускулов, в азарте дойти до решающей точки за как можно острее переживаемый отрезок пути. Это был основанный на жажде, с отключением всякой психики, поединок двух соревнующихся, не желающих уступать друг другу.
Было так жарко остаток ночи, что держали распахнутыми все окна, слушая ни на минуту не смолкавшие человеческие голоса, хлопки, громкие и неприятные крики чаек.
III
В девять утра он, весьма помятый и небритый, — в гостиницу зайти времени не оставалось, — встречал на железнодорожном вокзале Уильяма ван Бецелера с женой и великовозрастной дочерью. Сияющий и розовощёкий с коротко подстриженной бородкой гигант (на самом деле барон по рождению, чей герб изображал двух держащих красно-жёлтый щит львов), Билл был увенчан гнутой соломенной шляпой с маленькой кокардой, изображавшей джентльмена в пробковом шлеме, при галстуке и с моноклем. В каждой руке его было по огромному чемодану. Такой вид подходил больше приехавшему на Багамы американскому профессору (каковым он и был), чем голландскому аристократу. Вслед за Биллом не менее крупно сложённая, но какая-то стушевавшаяся спускалась из вагона на перрон его светловолосая жена. Замыкала маленькую процессию загорелая и тоже высокая дочь в тёмной майке с перевязанными чем-то только ей одной ведомым запястьями. Её взгляд изображал растерянность и скуку.
— В прошлый раз, коллега, когда мы виделись, ураган сокрушил Новый Орлеан. Интересно, что будет с Венецией, — громогласно и радостно произнёс ван Бецелер.