Но когда рядом со мной был Федор, и я смотрела на него, то чувствовала себя просветленной и счастливой, пожалуй, самой счастливой на свете.
Шли дни. У Федора заканчивался отпуск, а мне в любом случае уже было пора домой, тем более что до дедушки стали доползать слухи, чем занимается в деревне его внучка. Оказывается, даже у поля и у ветра есть уши и глаза…
За день до отъезда (Федора — на службу, а моего — в Минск) мы договорились провести нашу единственную — первую и последнюю — ночь вместе, в его хате на чердаке.
Чтобы было в чем мне ехать домой, мама прислала теплую одежду. Несколько летних вещей легко вошли в небольшую дорожную сумку.
Я попрощалась с дедушкой и бабушкой и якобы отправилась на станцию к вечернему поезду.
Бабушка проводила меня за калитку, и мы вместе подошли к поджидавшему у двора Федору. На улице было темно, на что мы и рассчитывали. Только так можно было оставаться незамеченными. Федор взял из моих рук сумку.
Бабушка на прощанье обняла и поцеловала меня, погладила по руке Федора:
— Глядите ж, мои детки. Только аккуратненько.
По приставной лестнице со стороны сада мы взобрались на чердак. Федор там уже заранее все подготовил: настелил сена, принес теплое одеяло, фонарик.
Не успели мы расположиться, как из хаты, услышав шум, выбежала мама Федора:
— Ты что это надумал, сынок? Иди зараз же в хату!
— Я перед дорогой хочу подышать воздухом, мам. Буду спать на чердаке.
— Яки яшчэ воздух у таки мороз?
Она возмущалась, на чем свет ругая сына. Но Федор, негрубо отругнув-шись, сказал твердо, что он так решил. Затаившись, я тихонько, боясь дышать, сидела, держала его за руку и слушала.
Наконец его мама смирилась, сходила в хату, взяла еще одно одеяло, вернулась, поднялась по заскрипевшей лестнице, и со словами: «Дурны! Вот дурны!», забросила его на чердак.
Я еще не знала, не догадывалась тогда, на чердаке, что все пережитое, увиденное, прочувствованное той ночью останется навсегда горячим и цельным потрясением во мне. Нет, не плотская красота и наслаждение изумили меня, а то простое тепло жизни, которое легко, незаметно, до самых сокровенных глубин наполнило меня.
Движения его рук были сдержанны. Но как откликалось и вторило все естество, сама душа моя этим рукам. Прижимая меня к себе, он то и дело проверял, как я укрыта, натягивая, подворачивая и подтыкая, чтобы не замерзла, под меня одеяло.
Утром, только рассвело, мать Федора отправила старшего сына проверить, живой ли их «дурень» и что заставило его ночевать на чердаке.
Таким образом, нас обнаружили. Позвали — сказали спуститься обоим — в хату.
Федор помог одеться, застегнул, одернул и отряхнул на мне платье. А я не сводила с него глаз. Каждое его движение было уверенно и неспешно. Он словно подчинял меня себе. Я никогда раньше не догадывалась, как приятно бывает просто слушаться. И больше не боясь ничего, счастливо доверялась той спокойной силе, терпению и заботливости, которые исходили от него — от человека, как я теперь знала, беспокойного, нетерпеливого и страстного. Все глубже и шире он открывался мне, и, благодаря этому где-то далеко-далеко, казалось, за пределами самой жизни, остались, растаяли и забылись все нанесенные прежде судьбой раны.
Мы спустились в хату, где нас уже ждали чай и только что отваренная, дымившаяся над открытым чугунком вкусным паром картошка. К моему удивлению, отец и мать Федора были мне рады, приняли, словно свою, и отправили погреться на горячую печь. И несмотря на то, что в хате было бедно и не совсем чисто, я себя чувствовала, как дома, и было мне среди этих людей уютно и спокойно.
— Я знаю, знаю, Федька давно любит тебя, — говорил мне его отец. — Правильно, увози, забирай ее, сынок.
Федор, приложив палец к своим губам, показывал мне: молчи.
Никто в тот день в его семье не притронулся к спиртному.
А вечером мы разъехались: я — в Минск, а Федор — к себе в воинскую часть.
* * *
Несмотря на то, что, прощаясь, Федор сказал мне: «Разводись с мужем», я этого не делала. Подождать, подумать, дать пройти времени, чтобы не смеялись люди, попросил меня Паша. «Да и как на это, — переживал он, — отреагируют в институте?» Родители, хотя теперь и не выражали прежнего сочувствия к Павлу, тоже советовали не торопиться, а сосредоточить все свое внимание на учебе, которую я запустила.
При встрече Павел, подойдя ко мне, в неприятно поразившем меня волнении протянул, пытаясь обнять, руки, но я решительно и с таким откровенным отвращением отстранилась от него, что он все понял.
Я стала жить у родителей, Павел — у себя в Негорелом.
Почувствовав облегчение от обретенной вдруг свободы, я не придавала большого значения тому, что все еще состою в браке, считая развод формальной процедурой, всего лишь отложенной на время.
Учась на заочном отделении, устроилась на работу по специальности, в лесоустроительное предприятие.
Втайне, «до востребования» — чтобы не огорчать маму — переписывалась с Федором.
Дни в плавном однообразном спокойствии сплетались с ночами, и потекли недели, месяцы…
Главной причиной, мешавшей мне принимать серьезные, касавшиеся моей дальнейшей жизни решения, была проблема со здоровьем. После больницы и того, что в первые месяцы после замужества произошло, я, истаивая изо дня в день, все больше и больше худела.
Еще в деревне Федор, оглядев меня с ног до головы, не скрывая своего разочарования, словно плетью ударил: «На кого ты стала похожа… Тебя ж почти не осталось. А какая раньше девка была!» И, увидев, как я застеснялась, расстроилась, опомнился: «Ну, ничего. Ты все равно красивая».
…Успешно сдав зимнюю сессию, успокоившись и все обдумав, я решила к Дню советской армии сделать сюрприз Федору.
Мой на три с половиной месяца задержавшийся ответ был кратким. Я написала, что подаю на развод. А двадцать третьего февраля, в его профессиональный праздник, сама приеду к нему. И что согласна выйти за него замуж.
На этот раз мама отнеслась к моей предстоящей встрече с Федором с сочувствием. Я даже в дороге ощущала ее трогательное участие.
Провожая меня на вокзал, она сказала:
— Ты, Наташенька, что бы там и как ни сложилось, главное, не переживай. Тревожно мне за тебя.
И рассказала мне сон, который видела накануне.
— Приснилось, что Федор встретит тебя. Хорошо встретит. Но признается, что женат. И ты, несмотря на то, что собралась к нему на три дня, узнав об этом, обменяешь обратный билет и уедешь.
Я рассмеялась:
— Мамочка, ты же никогда не верила в свои сны. А то, что тебе приснилось — быть такого не может!
От автостанции небольшого районного городка, куда я добралась автобусом из Москвы, уточнив, в каком направлении деревня, где располагалась нужная мне воинская часть, пошла пешком.
Остался позади городок. По обе стороны дороги, по которой я шла, стоял, кутаясь в белоснежные кружева зимы, лес. От снега, игольчатого и рыхлого, тяжело нависали над дорогой ветви елей. Весело прыгали по сугробистым пышным обочинам солнечные зайчики. Казалось, сама природа ликовала, радовалась моему приезду. Я смело, решительно и легко, не ощущая под собой ног, спешила к своему счастью.
Вдруг впереди меня остановилась ехавшая во встречном направлении военная машина. Из открытого кузова спрыгнул и направился ко мне в шинели и армейской шапке на голове мужчина. Радостью горели его глаза.
— Пешком ходишь? — приблизившись, приглушенным басом спросил Федор, и рывком притянул меня к себе.
Он посадил меня в кабину рядом с водителем, сам же взобрался обратно в кузов.
— Пока отведу тебя к сестре, — сказал он мне, когда мы вышли из машины. — Она тебя покормит. Ты у нее погуляешь, подождешь меня, пока я освобожусь. Служба, она и в праздники служба.
Я шла следом, любуясь, какой он высокий, широкоплечий, сильный… Мой мужчина.
Тогда, доверчиво следуя за ним по военному городку, я в полной мере ощущала, что значит быть счастливой.
Давно, еще в деревне, мне рассказали, что друг Федора Василий, с которым они вместе служили в армии, зная, как тот переживает за сестру, стал с ней переписываться. Меня удивило, что, ни разу не встретившись с Леной, представляя ее внешне только по фотографии, Василий взял ее в жены. В тот день, когда он приехал за ней в Иолчу, односельчане не остались в стороне — каждый, что мог, принес в дом Доленюков. Кровати застелили чистыми покрывалами. Но Василий, не оставаясь ночевать, увез Лену с собой.
Жили они хорошо, даже более чем хорошо — славно.
Уже предупрежденная Федором, Лена встретила меня, держа на руках годовалую дочку.
И тогда, оставаясь на время у нее, листая предложенный ею альбом с фотографиями, я вдруг оценила, какой может быть мужская дружба. И про себя подумала, что если Василий, общаясь с Федором, так поступил, то каким же человеком должен быть сам Федор?
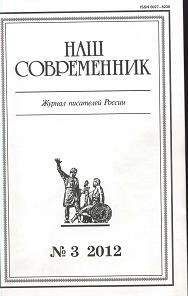


![Филип Фармер - Отвори, сестра моя [= Откройся мне, сестра моя; Отвори мне, сестра…; Брат моей сестры; Необычайное рождение]](https://cdn.my-library.info/books/91028/91028.jpg)

