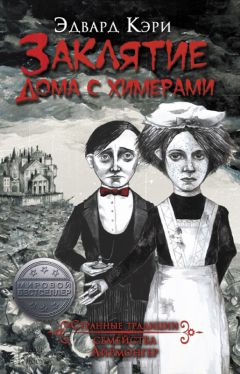— Умерла твоя мать. Понимаешь, умерла.
И еще чей-то голос присоединился, чтоб его убедить:
— Да, умерла она, скончалась, бедный малыш!
И больше он ничего не помнил. Огромная черная дыра в памяти. Все кругом было заполнено какими-то криками, похожими на вопли ночных птиц. Чей-то долгий вой, быть может, вырвавшийся у него самого или у кого-то другого. Все перед ним кружилось. Соленая вода на лице. Дрожь во всем теле, судороги. Невыразимый страх, животный, удушливый. Страшное ощущение: ведь он спал рядом с мертвой. Не с матерью рядом, а с покойницей. И он ее трогал, ласкал, целовал. Зажав кулачками глаза, Оливье заново открывал ужас остекленевшего взгляда, стынущей плоти. Он с яростью сдавливал свои веки. Он упал навзничь, скрючился, свернулся в клубок, как зародыш в яйце, словно обороняясь ото всех. Ведь ничто его больше не защищало. Тело его стало дряблым, как у рака-отшельника, утратившего свой панцирь. Внутри все болело. Дышать стало нечем, он был голым перед толпой этих чужих людей.
— Теперь он сирота…
В комнату набилось еще много домохозяек и просто любопытных, они с возбуждением, бестолково говорили, сетовали или повторяли избитые фразы о смерти, разыгрывали эту комедию торжествующей жизни, только изображающей сострадание в порядке самозащиты.
— Она его любила, мать, ничего тут не скажешь.
Одну из этих квохчущих наседок внезапно осенило. Ребенок, распростертый на полу с подушкой, подоткнутой под голову, вдруг услышал:
— А что, если она отравилась?
И люди посмотрели на коричневые подтеки шоколада в чашках, оставшихся на столе.
— Она ведь знала, что обречена…
— Так ведь и парень бы тоже помер…
— Это не обязательно.
Фразы следовали одна за другой, голоса звучали то громче, то тише, пока мадам Хак не прошептала:
— Тс-тс… — показав на Оливье: — А если ее убили… Тс, тише. А что? К ней ходили мужчины… Надо позвать врача засвидетельствовать смерть… В мэрии засвидетельствовать. Нет, не в полиции, в мэрии… Конечно. А ведь у него есть двоюродный брат… Как же его зовут? Да вот тот, из дома номер семьдесят семь…
Ребенка заставили открыть лицо, отвели его руки:
— Твой двоюродный брат — как его зовут? А, Жан, это Жан! А где же он работает? Ну где? Скажи, маленький, мы понимаем, как тебе плохо… Но надо ответить! Что у Жана есть телефон?
Оливье не понимал смысла этих фраз. Он все еще был в полном отупении, он онемел, словно смерть коснулась его самого. Лихорадочная дрожь опять охватила тело ребенка, и никто не остановил его, когда он спрятал в ладонях свое мокрое лицо.
Тогда и вошел сюда этот калека, проживающий на одной из ближайших улиц квартала. Его изуродованные ноги были как-то странно раскорячены, он двигался боком, с помощью двух костылей, которые прижимал к себе роговидными отростками, заменявшими ему руки. Прозванный Пауком, он был вполне пригоден для показа в ярмарочных балаганах. Какие-то слухи сопровождали этого человека: якобы он питался отбросами, точно крыса, ел легкие, совсем как кошка, якобы он не знал своего происхождения, а еще, что он много читал… Его появление показалось странным: обычно он ни с кем не разговаривал, впрочем и с ним бесед не заводили, ибо его присутствие людей смущало. Паук пристально наблюдал за всем происходившим в комнате своими огромными черными глазами и остановился около распростертого ребячьего тела, сотрясаемого рыданиями. Лицо калеки, обветренное, словно дубленое, было очень выразительным. Хорошо очерченные толстые губы раскрылись и послышался слабый, мягкий голос:
— Я знаю, где его кузен Жан. Он работает в одной типографии. Дайте мне монетку. Я позвоню по телефону от Эрнеста. Не говорите пока ничего жене Жана. Она еще так молода…
Мадам Хак с брезгливым видом протянула ему монету. Оливье приоткрыл глаза и увидел, как инвалид удаляется, передвигаясь с усилием, как неповоротливое насекомое; в комнате стало намного тише. Ребенок опять закрыл лицо, но фантастическое появление Паука и вызванный им страх, казалось, ослабили тот ужас, в который погрузила его мысль о смерти.
— Он теперь сирота. Кто его приютит?
Оливье почувствовал, что ого поднимают с пола, уводят из магазина: привратница Альбертина решила взять его к себе домой, пока не придет кузен Жан.
Как осилил мальчик этот путь? Как очутилась перед ним эта огромная чашка кофе с молоком, который он не мог выпить, хотя Альбертина все время подталкивала к нему эту чашку? Оливье ничего не помнил. В его памяти удержался лишь запах теплого напитка, такой противный запах, и вид пенки на поверхности, похожей на белый отвратительный лоскут.
Альбертина подвела Оливье к угловому диванчику, обитому тисненым бархатом. Он уселся поглубже в темный угол. Женщина бросила на диван журналы: «Ева», «Рuк и Рак», «Вю» и «Эксцельсиор», открытый на страничке приключений Кота Феликса. Мальчик не заметил этих журналов. Он уставился на какое-то пятно на голубом эмалированном кофейнике. Он видел только это пятно, черное, как большая муха. Ничего другого вокруг как бы не было.
Альбертина бестолково суетилась — то перебирала какую-то домашнюю утварь, невнятно шепча, как молитву, что-то себе под нос, то потирала щеки, приглаживала, послюнив палец, брови, то снова подходила к мальчику, скрестив руки, опять отходила, вздыхала, шмыгала носом. И, уже не в силах больше сдерживаться, направилась за новостями.
Оливье тихо заплакал. Медленно уходили секунды на больших стенных часах. Тишина словно удлиняла время. Иногда на ребенка нисходило успокоение, и ему казалось, что это был дурной сон, потом опять набегали слезы, переходили в икоту, в рыдание. Рыжая собака с висящими длинными ушами сидела рядом и глядела на него. Наконец измученный мальчик уткнулся лбом в деревянную спинку дивана, в самый угол, не обращая внимания на острую боль. Оливье лежал неподвижно, замкнувшись в себе, подавленный страхом и скорбью.
*
Все застыло на раскаленной зноем улице. Каменщики, вымазанные белым, прислонились к белой стене, чтоб перекусить, и издали казалось, что живые у них только руки и лица.
Оливье брел, низко опустив голову, глядя на следы мела на тротуаре. Он хотел уйти подальше от этой улицы, дойти до магазина «Мезон Доре» в Шато Руж и посмотреть на карусель с лошадками или на покупателей мороженого, склонившихся над металлическими вазочками с розовыми, белыми, кофейными или шоколадными шариками. Он дошел до холма, где была школа, и живо представил себе своих товарищей по классу. Кузен Жан решил, что сейчас Оливье не сможет учиться, и ему придется остаться на второй год; поэтому ему казалось естественным не посылать его в школу. Оливье вернулся на улицу, где находился галантерейный магазин его матери, закрытые ставни которого притягивали его к себе, как гнездо, куда он не может больше проникнуть.
Позже, когда начнет звонить басом на всю округу большой колокол под именем Савойяр из церкви Сакре-Кёр, улица Лаба оживится. Пока же она казалась застывшей от этого режущего света, ослепительность которого превращала рельефы в плоскость и словно погружала улицу в обесцвечивающий раствор.
Мальчик поднялся до улицы Башле, чтоб посидеть там на горячих, согретых солнцем ступенях. Он по-портновски скрестил ноги и вытащил из кармана пять костяных пожелтевших бабок, полученных им благодаря щедротам мясника с улицы Рамей. Начал играть, не обращая внимания на пыль, пачкавшую ему пальцы. Оливье был ловок в этой игре, знал, как надо подбросить косточки и как их подхватить тыльной стороной ладони или же в горсть, помнил многочисленные фигуры этой игры. Ему удался «пасс», но не вышло с «колодцем» и «головой мертвеца». Наконец он бросил игру и довольствовался тем, что скрипел одной косточкой о другую.