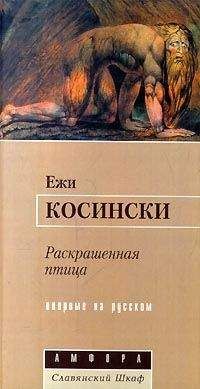Теперь я стал внимательнее следить за снайпером. Хотя лица его я рассмотреть не мог, мне пришло в голову, что он, возможно, видел меня и запомнил. Сердце мое учащенно забилось от этой мысли. Но снайпер мирно сидел, покачиваясь на ветке в такт с убаюкивающим ритмом леса, и винтовка лежала, как младенец, у него на коленях. Тем не менее я из осторожности так и не сводил с него глаз, пока голубая дымка не поднялась над верхушками деревьев, а вслед за ней не пришла темнота, словно порожденная покрывшей землю росой.
На следующий день адъютант объявил, что два гражданских лица погибли от шальных пуль. Расследование не дало никаких результатов, поскольку все солдаты смогли отчитаться за полученные боеприпасы.
В другой раз два грузовика с полковой футбольной командой решили срезать дорогу через артиллерийское стрельбище. Стрельбище было огорожено предупредительными знаками, но то ли водители их не заметили, то ли кто-то их снял. До другого края стрельбища не доехал ни один грузовик. Они успели пересечь поле примерно наполовину, когда артиллерия открыла огонь. Все, что удалось найти поисковой группе, это пару удивительно чистых белых теннисных туфель.
…
…
— А что, если он когда-нибудь станет моим любовником? Чтобы избавиться от этой мысли, тебе пришлось бы убить его, верно?
— Не знаю. Не уверен.
— Однажды, когда мы покупали мне пальто, продавец подошел, чтобы помочь мне его надеть, и стал поправлять воротник. Ты схватил его руку и, не говоря ни слова, убрал ее с моей шеи, как будто это была вещь. При этом ты сжал руку бедняги так сильно, что он чуть не закричал от боли. У него даже лицо побагровело.
— Я убрал его руку с твоей шеи, потому что я не хотел, чтобы он прикасался к тебе.
— Но он ничего такого не имел в виду. Просто хотел мне помочь.
— Не знаю, что уж вы там имели в виду. Я просто подумал о том, что ты, возможно, чувствуешь, когда он прикасается к твоей шее.
— Чтобы перестать об этом думать, ты и убрал его руку?
— Да.
— А ты смог бы убить человека? Конечно, по серьезному поводу.
— Не знаю.
***
Во время войны работу было найти трудно. Я был слишком хилым для полевых работ, к тому же крестьяне предпочитали использовать на хуторах труд собственных детей или родственников. Поскольку я был беспризорником, меня мог обидеть кто угодно. Крестьянин, у которого я наконец нашел приют, хватал меня за грудки и бил, когда ему заблагорассудится, исключительно для собственного развлечения. Иногда, правда, он приглашал своего брата или же друзей, чтобы они вместе с ним поиграли в одну игру. Я должен был стоять на месте и не сметь ни закрывать глаза, ни отводить их в сторону. Крестьянин же и его гости, встав в нескольких шагах от меня, плевали мне в лицо, соревнуясь, кто метче попадет в глаз.
Вскоре эта игра стала популярна во всей деревне. Мальчишки и девчонки, крестьяне и их жены, пьяницы и трезвенники — все принимали в ней участие.
Однажды я побывал на похоронах мальчика, который отравился грибами. Поскольку речь шла о сыне одного из богатейших в деревне крестьян, все пришли одетые в лучшее воскресное платье и вели себя подобострастно.
Я смотрел на рыдающего отца, стоявшего у края выкопанной могилы. Лицо у него было желтым, как вынутая из могилы глина, а глаза — красными и опухшими. Он едва стоял на ногах, и жене приходилось поддерживать его. Когда гроб положили на землю, он упал на него и принялся целовать и гладить полированную крышку так, словно это и был его ребенок. Он заплакал, и заплакала его жена. Плач их прозвучал в тишине, как плач хора в трагедии на пустой сцене.
Мне стало ясно, что любовь крестьян к своим детям так же непредсказуема, как моровая язва, время от времени поражавшая деревенский скот. Часто мне доводилось видеть, как мать гладила свое дитя по шелковистым волосам, как отец подкидывал ребенка в воздух и ловил на лету крепкими руками. Нередко я наблюдал, как маленькие дети неуклюже ковыляли на пухленьких ножках, спотыкаясь, падая, снова вставая, движимые той же силой, которая заставляет подсолнухи, склоненные ветром, поднимать свои соцветия к солнцу.
В другой раз я видел, как овца билась в мучительной и долгой агонии. Ее отчаянное блеяние повергло в панику всю отару. Крестьяне говорили, что животина, должно быть, случайно проглотила вместе с травой рыболовный крючок или осколок стекла.
Шли месяцы. Как-то корова из стада, которое я стерег, забрела на соседнее поле и потравила посевы. Мой хозяин узнал об этом. Когда я пригнал домой стадо, он меня уже поджидал. Затащив в сарай, он принялся пороть меня и выпорол до крови. В конце он зарычал от злости и хлестнул меня по лицу кожаной плетью.
После этого я начал собирать выброшенные рыболовные крючки и прятать их за сараем. Когда крестьянин отправился с женой в церковь, я пробрался к моему тайнику и засунул пару крючков и щепотку толченого стекла в шарик, скатанный из теплого хлебного мякиша.
У крестьянина было трое детей. Я любил играть с младшей дочуркой. Мы часто встречались с ней во дворе, и я смешил ее, изображая лягушку или аиста.
Однажды вечером маленькая девочка нежно обняла меня. Я облизнул хлебный шарик и попросил ее проглотить угощение в один присест, не разжевывая. Она колебалась, и тогда я взял кусок яблока, положил его на корень языка и, подтолкнув указательным пальцем, проглотил разом. Девочка, подражая мне, проглотила шарики один за другим. Я старался не смотреть ей в глаза, заставляя себя вспоминать жгучую боль, которую причинила мне плетка ее отца.
С этого момента я смело глядел моим мучителям прямо в лицо, провоцируя их каждый раз на новую порцию издевательств и глумлений. Мне больше не было больно. Я знал, что за каждый удар плети они поплатятся болью во сто крат большей, чем моя боль. Я уже не был безответной жертвой — я был их судьей и палачом.
В округе не было ни врачей, ни больниц. По железнодорожной ветке, проходившей рядом, курсировали только товарные поезда, и то изредка. На заре заплаканные родители понесли свое чадо к священнику, чтобы тот окропил ребенка святой водой. К вечеру того же дня в полном отчаянии они отправились с умирающей девочкой на руках к жившей неподалеку знахарке, о которой люди говорили, что она — ведьма и колдунья.
Но смерть все продолжала свою жатву: дети умирали один за другим. Некоторые крестьяне начали тайком поносить Бога. Они говорили, что Он Сам предал Своего единственного сына на распятие, чтобы искупить собственную вину перед миром, который Он сотворил таким жестоким. Другие утверждали, что смерть поселилась в деревне, покинув разбомбленные города и лагеря, где дымились трубы крематориев.
***
В университете меня возненавидел один из студентов. Мне стало известно, что он — выходец из крестьян и поэтому пользуется особым покровительством партии, которая из политических соображений благоволила таким, как этот студент. Не в моих силах было изменить обстановку, благоприятствовавшую ему, а значит, надеяться на то, что он изменит свое враждебное отношение ко мне, было нечего. При этом я понимал, что обвинять во всем систему тоже бессмысленно, — это означало бы капитуляцию перед моим врагом.
В те годы нас заставляли вступать в военизированные студенческие отряды. Каждый такой отряд поочередно охранял университетский арсенал, находившийся в ведении коменданта города. В соответствии с графиком мы заступали в двухдневный караул, организованный по всем правилам воинской службы. Казарма караульного отряда находилась в одном из корпусов университета. В обязанности старшего по караулу входило принимать по телефону приказы, вносить их в книгу и действовать в полном соответствии с уставом, поскольку нас предупредили, что комендант города может в любое мгновение объявить учебную тревогу, чтобы проверить боеготовность студенческих частей.
Как-то раз я увидел, как мой недруг выслушивает по телефону приказ от начальника городского арсенала. Он сжимал телефонную трубку в руке так сильно, что у него даже побелели костяшки пальцев. В моей голове созрел план.
Ко времени, когда снова настала его очередь дежурить (это была суббота), я, попрактиковавшись, научился говорить грубым командным голосом с характерными надменными нотками кадрового офицера. В первый же день его дежурства я позвонил в полночь и требовательным, не терпящим возражений тоном сообщил ему, что я дежурный по гарнизону и желаю немедленно говорить с начальником караула. Все тем же голосом я сообщил, что идут армейские учения. В соответствии с планом необходимо поднять по тревоге университетское ополчение и двинуться с оружием через парк в направлении городского арсенала. Затем атаковать арсенал, обезоружить охрану, войти в здание и удерживать его, пока не окончатся учения. Я потребовал повторить приказ вслух; он с готовностью повиновался, так и не заметив, что я не назвал пароль, которого я, впрочем, и не мог знать.