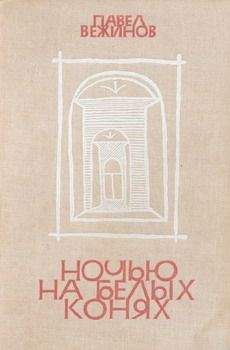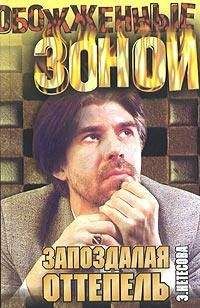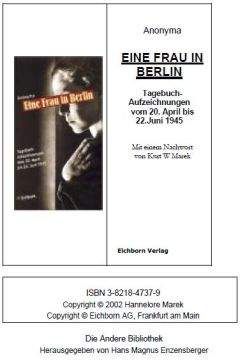Эта выходка сошла Наталии с рук лишь благодаря вмешательству отца, который был тогда членом кассационного суда. Но одна из ее проказ чуть не кончилась роковым образом. В только что открытой купальне построили новую вышку. Даже самые опытные пловцы еще не решались с нее прыгать. А она бесстрашно взобралась на самый верх и бух в воду. Конечно, сильно ушиблась и чуть не захлебнулась. Еле из бассейна вытащили.
Разговор становился все веселей и оживленней. Но когда на другом конце стола раздалось приглушенное хихиканье, академик поднялся со стула. Он не был ни возмущен, ни рассержен — просто встал, извинился и ушел к себе в кабинет. Мужчины тут же стали прощаться, но три женщины все никак не могли оторваться от своих бокалов. Тем более что сестра хозяина занимала их беседой о чудесах гороскопов. Сашо несколько раз зловеще подмигнул ей, но та, похоже, тоже слегка опьянела, потому что не обратила на него никакого внимания. В конце концов он был вынужден прямо сказать им, что академик после стольких волнений нуждается в отдыхе и покое. Женщины наконец удалились, натыкаясь друг на друга и путая в прихожей свои траурные шляпки. Когда они ушли, мать бросилана него сердитый взгляд.
— До чего же ты невоспитанный! — возмущенно проговорила она.
— Ты можешь продолжить и одна, — небрежно заметил сын. — В баре еще есть чудесный грузинский коньяк.
На следующее утро Сашо зашел навестить дядю. Перед дверью он невольно прислушался: не раздастся ли вновь стук машинки? Но в квартире царила густая, почти осязаемая тишина — даже звонок прозвенел как-то подавленно и глухо. Дверь открыл дядя — в зимнем халате он выглядел совсем померкшим и молча пропустил его в переднюю. Спал он явно в кабинете на диване, хотя постель была убрана. Воздух здесь был тяжелый, вероятно, старик забыл открыть на ночь окно.
— Садись.
Сашо сел в кожаное кресло у письменного стола.Он всегда садился сюда, когда приходил к дяде. Дядя молчал. Казалось, он витает в каких-то других мирах, вид унего был совсем унылый.
— Прочти-ка это, — наконец заговорил он и протянул племяннику несколько страниц, напечатанных на машинке и затем выправленных от руки. Сашо стал читать, но сосредоточиться ему было очень трудно. Мысли разбегались, слова скользили мимо сознания. Пришлось читать сначала. Так, значит, вот что писал дядя той ночью, когда на этом самом кресле, равнодушно развалившись, сидела смерть. Сашо знал, как добросовестно академик относился к своим обязанностям, но это уже переходило всякие границы. Мог ли понять юноша, что в ту ночь у дяди попросту сработал инстинкт самосохранения, который день за днем, минута за минутой укреплялся в течение всей его жизни. Академик уже не раз спасался таким образом — уходя с головой в дела.
Чувствуя себя очень неловко, Сашо положил рукопись на стол.
— Ну, и что ты об этом думаешь? — спросил дядя.
— Как тебе сказать, боюсь, что это не годится, — неохотно пробормотал юноша.
На этот раз академик взглянул ему прямо в лицо. Взгляд был тяжелым и безжизненным.
— Почему?
— Не знаю, как тебе это объяснить, — запнулся Сашо. — Вообще-то написано хорошо, с чувством, но, мне кажется, ты не очень учитываешь нынешний политический момент. Вот, например, начало — о двух мирах, которые сошлись в яростной схватке. Амы сейчас говорим о мирном сосуществовании. И о разрядке напряженности.
— А этот фашистский переворот? — хмуро возразил академик. — Ведь не я же его инсценировал!
— Ладно, дядя, напиши что-нибудь об американских монополиях, о ЦРУ — в любом случае не ошибешься. Но два мира, которые бьются не на жизнь, а на смерть? Ведь если они и вправду сейчас схватятся, это будет именно на смерть.
— Хорошо, напиши ты, как считаешь нужным. Это все-таки только проект.
— Кто тебе это поручил?
— Комитет, естественно.
Дядя был заместителем председателя Национального комитета защиты мира.
— Идет, — ответил юноша. — Но, поверь, ты напрасно старался. Уверен, что они не одному тебе поручили написать это воззвание. Потом выберут самый банальный вариант и именно его напечатают. Впрочем, банально писать легко только тем, кто вообще по-другому не умеет.
Сашо казалось, что дядя его не слушает — настолько отрешенный вид был у него в эту минуту. Но тот все слышал.
— Пусть даже так, — сказал он. — Не в этом суть. Каждый должен делать свою работу, как может и как считает нужным. А как ее оценят другие, не так уж важно.
Вот уже несколько лет Сашо был у дяди чем-то вроде личного секретаря и готовил ему все материалы, от которых тот не мог отказаться. Статьи, политические заметки, даже заявления и интервью — все это выходило из-под безупречного, почти вдохновенного пера молодого человека. Именно это вдохновение, эта покоряющая убежденность и искренность иногда смущали академика. Во время их обычных разговоров он не слышал от племянника ничего похожего. Сашо казался ему чересчур сдержанным — скорее трезвым скептиком, чем доверчивым энтузиастом. Старый ученый никогда не мог понять, что было личным убеждением юноши, а что он ловко приноравливал к точке зрения заказчика. Ведь академик в конечном счете и был чем-то вроде заказчика — вкладывал свои идеи и свои средства. Он отдавал племяннику все гонорары за их общие работы, а когда они носили чисто общественный характер, находил какой-либо иной способ его вознаградить. Так или иначе, но это сотрудничество шло на пользу обоим. Академик вовремя справлялся со своими общественными обязанностями, не тратя на них времени, отведенного для научных занятий. А у Сашо всегда водились деньги, что в какой-то мере отличало его от прочих студентов.
— Я пойду, — сказал юноша. — Если я, конечно, тебе больше не нужен.
— Иди, иди, — кивнул дядя. — Я справлюсь сам.
Когда Сашо ушел, академик тупо обошел пустую квартиру, потом прилег на диван. С самого утра он чувствовал себя опустошенным, почти полым. И мысль его непрестанно возвращалась к вчерашним похоронам, вызывая все больший стыд и смущение. Почему он так внезапно разрыдался во время панихиды? Так горько, так безутешно? И кого он оплакивал — ее или себя? А может быть, ни то, ни другое? Себя он никогда не жалел, потому что, как всякий занятой человек, никогда всерьез не задумывался о своей судьбе. Никогда он не оборачивался назад, чтобы окинуть взглядом пройденный путь, даже не пытался определить, какую роль он играет в своей собственной науке — чего он достиг, чего еще может от себя ожидать. Жену же он терял постепенно и спокойно, без сотрясений и кризисов, если не считать того случая в самом начале, о котором он вообще не хотел вспоминать. Разумеется, он привык к ней, но разве привычки оплакивают так горько?
Тогда почему?
Да, он должен был разобраться в этом гораздо раньше, должен был найти истину задолго до того, как в дом пришла смерть. Да, гораздо раньше. Когда смерть рядом, человек становится слабым, беспомощным, ко всему безразличным. Совсем, совсем безразличным, даже к себе самому. И все же он смутно чувствовал, что в этих рыданиях таился какой-то смысл, что они не были беспричинными. И этот смысл, может быть, и составлял истинную суть его существования, каждого человеческого существования. Хуже всего в этом мире человек знает самого себя — то, что скрыто у него в душе. И те дороги, по которым он, словно слепой, бродит дни и ночи. Такие мысли приходили сейчас ему в голову, но теперь они не казались ему ни горькими, ни страшными.
Он не заметил, как вдруг заснул — словно оборвалась какая-то нить. На этот раз в его сне не было ничего — он был пуст и глубок, как смерть.
Дней десять академик никуда не выходил. Ничем не занимался, ни о чем не думал. Но не чувствовал себя несчастным. Его словно бы охватило полное безразличие, которое было еще хуже апатии, всегда таящей в себе какую-нибудь драму. Тут не было и драмы, не было ничего. Просто он потерял всякий интерес к жизни.
В эти тихие, совершенно бесцветные дни сама погода словно бы стала его союзником. Он не мог припомнить второго такого холодного и дождливого июня, который скорее напоминал позднюю осень. Над самыми крышами ползли громадные тяжелые тучи, брызгая холодным дождем. В кабинете всегда было сумрачно и прохладно, дождь обильно заливал стекло окон, и мир казался сквозь них расплывчатым и нереальным. Самым странным было то, что телефон упрямо молчал, никто ему не звонил. Укрывшись в своем кабинете за этими облитыми дождем окнами, он чувствовал себя точно потерявшаяся лодка, которая медленно скользит по туманному океану времени, чтобы исчезнуть в нем навсегда.
Каждое утро часам к восьми приходила сестра, всегда с полной сумкой продуктов. К десяти она кончала всю мелкую работу по хозяйству и становилась к плите. Приготовление пищи было для нее не простым и будничным делом, а каким-то священнодействием. И действительно, все у нее получалось удивительно вкусным.