Энни лежал и пытался представить, что сейчас по поводу порки думают китайцы, ведь только они подвергаются такому наказанию. Но среди всех народов именно китайцы чаще других используют порку. Они вечно нещадно пороли друг друга. Поэтому было бы нелогично обвинять в жестокости только надзирателей, поровших в тюрьме «Виктория» провинившихся заключенных. Один из надзирателей был валлийцем, второй — кокни из Степни, знакомый Энни. Кроме того, он являлся чемпионом Гонконга по игре в «дартс».
В любом случае порка — дело отвратительное. А когда без конца слушаешь вопли тех, кого порют, так это настоящая пытка. Для порки не было отведено какого-то определенного часа: ее могли затеять на рассвете или после чая, но каждый раз она превращалась для Энни в «путешествие по улице Страданий».
Энни Долтри — капралу Стрэчену: «Как по мне, Стью, повешение даст порке сто очков вперед».
Капрал Стрэчен: «Кто бы возражал!»
Стрэчен — родом из Карлайла, что на границе с Шотландией, — был уволен из 52-го пограничного горного батальона в чине рядового после двадцати шести лет службы. Он дважды получал чин сержанта и дважды был разжалован; все называли его капралом, даже начальник тюрьмы майор Беллингэм. В бедре Стрэчена сидела афганская пуля, которая доставляла ему определенные неудобства, зато он обладал медалями, полученными за бои в таких местах, название которых без слез не мог слышать ни один шотландец. Достаточно упомянуть кровавую кампанию при Сомме, где сложили свои уставшие головы две трети полка… Стрэчен пил.
В течение последних лет слоняться целыми днями без дела было единственным занятием Стрэчена. Тем не менее он дорожил частенько подворачивающимся заработком, за который получал один фунт и пятнадцать шиллингов за какое-нибудь дельце.
К тому же Стрэчен был изрядным любителем черного юмора. Например, каждый проклятущий день заключенные-европейцы все как один восходили по его указанию на виселицу, а затем спускались обратно. Виселица была встроена в короткий бетонный мост, соединявший корпуса «Д» и «С». Этот мост нужно было пройти, чтобы попасть во двор экзекуций, располагавшийся наверху. В центре моста зияло квадратное отверстие, сквозь которое на расстоянии каких-нибудь пятнадцати футов виднелась узкая улочка.
— Стюарт, это нехорошо, — говорил Энни. — Ну должна же быть хоть капля уважения к людям. Не к тем ублюдкам, которых уже повесили, а к другим, которые ждут своей участи.
Свою речь Энни не контролировал, ибо только мысль успевала зародиться в его мозгу, как язык ее уже произносил.
— У меня что на уме, то и на языке, — пояснял он Стрэчену и при этом изображал повешенного: бесформенная масса тела, с торчащим концом.
— Они, парень, называют это высшей мерой наказания. Им следовало бы для приличия построить подобающую виселицу. А эта чертова дыра в бетоне напоминает сортир.
Слова Энни изрядно веселили Стрэчена.
Добрая половина тех, кто попал в тюрьму в 1927-м, были пиратами. За этот промысел полагалась смертная казнь, и ничто не могло послужить смягчающими обстоятельствами. Правило гласило: пойманный на месте преступления пират должен быть повешен без рассуждений. Пираты заслуживали этого как люди самой низкой и дикой человеческой породы, да и слишком много их развелось на омывавших Китай морях.
В пятнадцать минут шестого, когда в Сингапуре уже взошло солнце, Энни проснулся от разрушительного, кошмарного сна, о содержании которого лучше умолчать. В Гонконге появление над тюрьмой убогого подобия облака желтоватого цвета никак нельзя было назвать занимающимся рассветом. Энни проснулся в таком состоянии, словно накануне вечером дал себе соответствующую установку. Хитрый прием, которым владел этот талантливый, но обойденный удачей человек. Он мог бы отбивать тяжелыми ударами головы о стену каждый рассветный час, а каждую четверть часа — ударами слабее. В любом случае церемония повешения разбудила бы его, но тогда самое интересное во сне было бы пропущено.
В тюремной жизни повешение было такой же рутиной, как и порка, только проводилось несколько реже. Потому-то некоторые обитатели корпуса «Е» заставляли себя проснуться, чтобы понаблюдать за исполнением высшей меры наказания. Для этого были все возможности: «Мост вздохов» располагался прямо под окнами корпуса «Е», что обеспечивало великолепный обзор мероприятия, если вскарабкаться на парашу. Грохот сапог по бетону являл собой вступительный аккорд предстоящего зрелища. Устрашающе гулкий звук наводил на мысль, что где-то в канализационной трубе бьют в барабаны, затевая пляску смерти. Из сумерек внизу доносились глухие выкрики команд мистера Хью Льюлина — старшего надзирателя. Они перемежались с репликами Стрэчена относительно личных параметров приговоренного, пока тот наслаждался последними минутами своего земного существования.
— Почти шестьдесят пять килограммов, сэр.
Энни подвинул парашу к окну. Точно распределить вес своего тела по крышке параши — дело мудреное. Что же касается ржавой крышки, то на ее долю пришлось немало утренних бдений из-за чьих-то преступлений и грехов. Сквозь решетку Энни впился глазами в затянутое клубящимися тучами небо. Отвратительное свечение огромного облака обозначило его трансформацию, происходившую по причине переизбытка влаги. Внизу отчетливо был виден уютный дом губернатора, над ним мокрой тряпкой висел большой флаг, напоминающий виселицу для Ли Вэнчи.
Асимметричность черт его лица указывала на то, что в нежном возрасте казнимый, очевидно, получил несколько сильных ударов. Это лицо выражало ярость, что делало его весьма запоминающимся. Вообще-то гневливость не отличала тех, кто был приговорен к повешению. Потому можно было усомниться в россказнях о том, будто китайцы принимают смерть спокойнее белых. Наоборот! У Долтри были все основания полагать, что китайцы испытывают ужас перед лицом смерти и несравнимо большее восхищение при виде ее зримых атрибутов, нежели какой-нибудь католик или мусульманин.
Ли Вэнчи был доставлен в тюрьму с острова Ланто, где его захватила команда канонерской лодки «Таймс Диттон». В ожидании суда он провел в одиночке не более недели. Раньше Долтри никогда его не видел. Казнимый китаец стоял, зажатый между двумя надзирателями-пенджабцами в туго намотанных тюрбанах по случаю утреннего мероприятия, в отглаженных брюках и с явными мыслями о завтраке. Стрэчен держал в руках черный пыльный мешок из-под ирландского картофеля, которому была отведена роль капюшона. Ли Вэнчи выразил ему свое презрение смачным плевком, который попал прямо на помост виселицы. Китаец начал то ли что-то говорить, то ли читать молитву на своем языке. (Это был не кантонский диалект, а какая-то разновидность языка чанг-чиа, распространенного в районах дикого юга.) Капеллан Англиканской церкви преподобный Эдвин Тревор не обратил никакого внимания на горячо молившегося и почему-то «перенаправил» душу Ли Вэнчи к Богу Израилеву.
Энни отвел взгляд от Тревора, оскорбленный как его недостойным поведением, так и не вызывающим доверия грязным воротником. Ему сделалось стыдно из-за контраста между затрапезностью капеллана и парадным видом надзирателей-пенджабцев, хотя последние были простыми и скромными людьми. Энни изучал ярость в глазах Ли Вэнчи. В лицах многих китайцев отчетливо и пугающе просматривались очертания черепа. По тому, как глазные яблоки располагались в глазницах, Энни определял, останется ли человек в живых или ему суждено стать жертвой насилия. По глазам боксеров это становилось очевидным после пятидесятого боя, но этот китаец родился уже с такими глазами. Пока Энни наблюдал за ним, от этой мысли вкупе с другими, не менее пессимистическими, у него неприятно засосало под ложечкой. (Конечно, нужно принять во внимание, что он еще не завтракал.)
Черные глаза китайца беспокойно метались. Долтри верил, что китайцы, в отличие от белых, могут смотреть на солнце не мигая, даже если оно бьет им прямо в глаза. Возможно, это было не так, но ни один ученый не взялся бы объяснять, почему с китайскими моряками никто не может сравниться в остроте зрения, а в машинном отделении лучше шотландцев не найти? Энни уважал науку, но ему делалось неприятно, когда ученые мужи унижали его своим морализаторством, куда более тошнотворным, чем религиозные проповеди.
И сейчас он, стоя на крышке параши, видел сквозь решетку, что Ли Вэнчи перестал молиться и дождем обвинений поливал всех и вся на вполне вразумительном кантонском.
Затем китаец взошел на помост, ему на шею накинули петлю, и Стрэчен добросовестно поправил ее. И вдруг китаец обратился к Каткарту, военному врачу колонии. Он прожил в Гонконге около двадцати лет и неплохо говорил на кантонском. Сейчас доктор внимательно слушал Ли Вэнчи. Старший надзиратель Льюлин раздраженно вмешался:
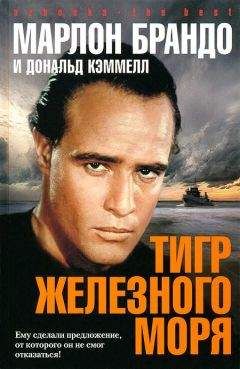



![Филип Фармер - Властелин тигр [= Владыка тигр, Бог-тигр, Властитель тигр, Лорд Тигр]](https://cdn.my-library.info/books/21569/21569.jpg)
