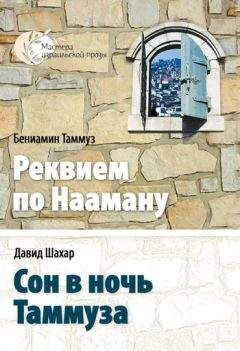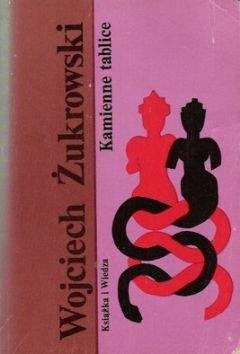Ознакомительная версия.
– Слушай. Хемдан, – Таммуз придает своему голосу грозные нотки и для вящей убедительности хмурит брови, чтобы преподать ему урок раз и навсегда, – я разрешаю тебе играть там, в том углу, но при условии, что ты не будешь мне мешать, а подходить ко мне лишь по моему зову. Если хотя бы один раз, ты слышишь меня хорошо, да, Хемед? Если хотя бы один раз ты начнешь свои выкрутасы, поймаю тебя и сброшу вниз без единого лишнего слова, понял?
Хемед горячо качает головой в знак полного понимания и решительного согласия, и вновь проскальзывает нечто лукавое из-под облака страха, которое слегка рассеялось. Удаляется в угол, и оттуда доносятся звуки изображаемого им паровоза. Поезд приближается, огибая всю площадь, натужно поднимается на склон, тяжело дыша, застопориваясь, давая предупредительные гудки. В момент, когда он ловит взгляд Таммуза, рука его шлет привет и Таммуз машет ему в ответ.
– Ты не сбросишь меня вниз! – кричит Хемед, не останавливая поезда.
– Почему нет? – удивляется Таммуз.
– Потому, что ты добрый!
– Ты окажешься внизу, как только начнешь… – повторяет Таммуз, но уже не с прежней решительностью, которая слабеет и тает вместе с лукавой улыбочкой, которую ему посылает Хемед между двумя ямочками на щеках. «И вправду, как я смогу такое сделать?» – спрашивает себя Таммуз и видит в Хемеде самого себя, как в неком волшебном зеркале, отражающем прошлое. Таким он был, и такой была его судьба в те давние дни, когда был мальчиком семи-восьми лет, без дома, приживалой у старика, ребе Акивы Рабана, которого в квартале называли «Красноухий торговец вразнос», потом жил у доктора Ландау, а какое-то время даже в подвале дома дяди отца по кличке «Долгожитель». Особенно мрачной была жизнь в доме у «Красноухого». О каких играх могла идти речь, если даже уроки он не мог там выполнять. Стол всегда был завален тарелками, стаканами, ножами и вилками, бутылочками с лекарствами, особенно глазными каплями, и он с трудом очищал себе уголок, чтобы положить книгу или тетрадь, заняться чтением или письмом. И то лишь тогда, когда старика со старухой не было дома. Слыша издалека их приближение, он торопился спрятать книги и тетради под стол. Однажды забыл тетрадь на столе и, вернувшись, обнаружил на ней бутылку с подсолнечным маслом. На следующий день учительница размахивала его тетрадкой перед всем классом, показывая отвратительное масляное пятно, как пример неряшливого ученика и, к тому же, лентяя. Старик с трудом держался на ногах, а у старухи один глаз был вовсе слеп, на другом – бельмо, и не было с кого что-либо требовать. Он должен был им быть благодарен за то, что согласились его приютить, несмотря на все трудности и заботы, которые он прибавлял к их и так нелегкой жизни. Ужасный запах продолжает годами преследовать его – запах мха и сырости на стенах, старческой одежды, заплесневевших остатков еды, смешанный с запахом лекарств и копоти керосиновой лампы, вонью селедки, туалета и ночных горшков. У доктора Ландау, наоборот, он боялся замарать прикосновением руки предназначенный ему столик, привнести в постельное белье запахи дома «Красноухого», который не выветривался из ноздрей, стеснялся дыр в носках и латок на брюках. Одно лишь оставалось постоянным – чувство благодарности хозяевам. Как это случилось, и чем заслужил он, маленький грязнуля, быть принятым в доме доктора Ландау с такой радостью и симпатией?
Но ведь Хемед не был приживалой, перекати-полем от стариков к доктору Ландау, а затем – в подвал «Долгожителя». Он живет в своем доме, и мать его любит больше всех остальных детей. Только в определенные часы ему запрещено шуметь и переворачивать все в доме, ибо мешает человеку, который не обязан терпеть избалованного ребенка. Даже если он его отец. И вовсе не должен баловать его в дополнение к матери, воспитать в Хемеде маленького тирана, превратившего отца, мать и старших братьев в своих рабов, подчиняющихся всякой его прихоти. Тем более, если это отчим. Пусть ребенок себе бесится вне дома, на игровой площадке или в любом другом месте, где играются дети. Здесь он тоже мешает. Здесь тоже не игровая площадка, и я тем более не обязан терпеть его выкрутасы, но нельзя подвергать его опасности. Выгоню его отсюда, тут же на него набросятся братья и сбросят его в пропасть, как бросили братья библейского Иосифа в яму при первой подвернувшейся возможности.
Таммуз заглядывает в отверстие построенной им башни. Не хватает одного кубика, чтобы завершить ее строительство. Краем глаза он держит в поле зрения головы двух братьев, которые то выглядывают, то прячутся за стволом одной из сосен в роще. Он ощущает их присутствие все время, хотя и погружен в свое строительное дело. Они, вероятно, тоже заметили его взгляд и, подобно теням, перебегают от сосны к сосне, приближаются, петляя, убегают, но не решаются тронуть Хемеда, пока Таммуз его защищает.
– Иди сюда, – Таммуз зовет малого и снимает часть кубиков с вершины сторожевой башни, чтобы разговаривать с ним, не поднимаясь с места, – я хочу тебя о чем-то спросить.
Хемед прекращает пыхтение паровоза и замирает в сомнении:
– Ты же сказал мне оставаться в углу. Далеко от тебя.
– Да. А теперь я велю тебе прийти сюда.
Хемед тянет за воображаемый шнурок, издает гудок, меняет путь, и поезд в полную силу движется к Таммузу.
– Ну, не так близко. Ты что, не видишь, что почти разрушил стену дворца? Полшага назад. Так. Теперь сядь и скажи мне: ты ненавидишь его, потому что он не дает тебе играть в доме?
– Он не разрешает мне играть в доме с двух пополудни и до шести вечера.
– Хорошо. До обеда ты в школе. Ты, вероятно, во втором классе?
– В третьем.
– Так. Значит, до обеда ты учишься в третьем классе, и тебя дома нет. После шести вечера ты ужинаешь и идешь спать.
– Я никогда не иду спать сразу же после ужина.
– Даже если ты не идешь спать сразу, есть у тебя достаточно времени для игр – с двух до шести, но тебе это запрещено.
– Иногда можно.
– Значит, иногда он тебе разрешает, а иногда запрещает.
– Иногда его нет дома.
– Но когда он дома, разрешает тебе иногда играть?
– Да, разрешает. Но кричит на меня, если я играю.
– И ты не ненавидишь его, когда он кричит на тебя и не разрешает делать то, что ты хочешь?
Хемед пожимает плечами, и губы его искривляются, выражая неясное – то ли да, то ли нет. Он не знает, что ответить.
«Почему, черт побери, занимает меня вообще то, что он чувствует или не чувствует к тому человеку, который не разрешает ему играть? – удивляется про себя Таммуз, и злость на самого себя пронизывает его насквозь. – Не знаю ни этого человека, ни его имени. Не видел его и никогда не увижу. Даже не знаю, кем он приходится Хемеду. Но если бы и знал, это ничего не меняет. Что он мне? Даже если бы он был моим другом, даже если бы это был я сам, – он это я, а я это он – чего это я занимаюсь чувствами этого проказника? Именно сейчас, в этот миг, когда два его брата-хулигана готовы напасть на меня?»
Тень проходит по стене из кубиков справа налево, за нею крадется еще тень – слева направо. Таммуз всем телом наклоняется вперед перед рывком. На миг замирает и говорит Хемеду:
– Слушай, ты спрячешься здесь, за стеной, которую я построил. Не двигайся с места, пока я их не выгоню. Они еще могут схватить тебя и сбросить вниз.
Таммуз не успевает завершить фразу, как Хемед прячется за ним, как будто заранее знал, что Таммуз скажет. Последний совершает рывок, и в этот миг левая нога его цепляется за что-то, и он растягивается на земле, сильно ударившись, и мысль молнией проносится в сознании: это он зацепился за ногу Хемеда. Тот не успел уйти в укрытие и, по всей вероятности, нечаянно подставил ему подножку. Два брата, которые улепетывали, увидев, что Таммуз упал, возвращаются, набрасываются на него и волокут к краю пропасти. Таммуз борется с ними из последних сил. Ему удается, несмотря на боль в ребрах и пыль, забившую рот и ноздри, перевернуться, сбросить их с себя и ухватиться за трубу. Теперь он видит Хемеда, бегущего ему на помощь. Но в последний миг происходит нечто неожиданное. Вместо того, чтобы наброситься на тех двух, он бежит прямо на Таммуза и ботинком ударяет его по руке, держащейся за трубу. От сильного удара рука разжимается, и Таммуз падает в пропасть до того, как появляется второй ботинок Хемеда, нацелившийся в его лицо: подошва ботинка Хемеда пролетает над волосами Таммуза и ударяет в пустоту, где-то там, в высоте, далеко от головы.
Так и не знаю дальнейшую судьбу этого киносценария и вообще – продолжал ли Таммуз писать и другие сценарии после отъезда из страны. Тот сценарий он показал мне во время одной из последних встреч, а затем его и след простыл, и не получил я от него ни одной открытки, ни одного слова, ни привета, переданного кем-либо из тех, кто побывал во Франции. Не знаю, пытался ли он перед отъездом найти в Израиле возможность снять по этому сценарию фильм. Все те немногочисленные кинооператоры, владеющие необходимой техникой, были по горло заняты актуальными историческими событиями, и количество пленки недостаточно им было даже для того, чтобы снять уход британцев из страны. В свое время, когда я читал сценарий в присутствии Таммуза, я предложил ему назвать его «На крыше» вместо «Видения» или «Откровения», которые он предлагал. Они казались мне неподходящими или, во всяком случае, лишенными ясного и определенного смысла для зрителя тех лет. Сценарий напомнил мне выражение, слышанное мной на идиш: «Сумасшедший, слезь с крыши!» Взбирающийся на крышу считался сумасшедшим. Тот, кто тронулся умом, начинал лезть на крышу. Ну, и всякие лунатики или получившие вместо солнечного лунный удар, не удостоились, как в свое время Габриэль Лурия, лунного благословения, освящения начала месяца, а лишь лунного проклятия.
Ознакомительная версия.