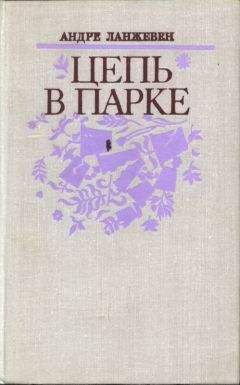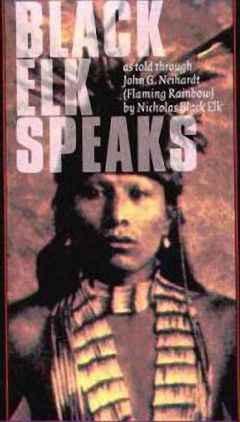— Откуда ты знаешь, как меня зовут?
— Ты ведь братишка Марселя. Вы жили напротив, неужели забыл? Ты был вот такой кроха, и мы с тобой играли в мяч. А ты все время бегал за моей сестренкой…
— Почему я за ней бегал?
— Ей было столько же лет, сколько тебе, вот вы и дружили.
Он вроде бы припоминает ее. Может быть, это с ней они сидели на галерее под старым одеялом, натянутым, как полы палатки? Он не знает, что они там делали и за что его наказали, но наказан он был из-за девчонки и одеяла, это точно. Кто же его тогда отшлепал?
— Почему это он вдруг попросил тебя?
— Чего просил?
— Да присматривать за мной?
— Потому что, кроме меня, тут никого не осталось. Все укатили кто куда, по большей части в армию.
— Почему?
— Так ведь война, ты что, не знаешь? Не может быть, чтобы вам там не говорили о войне.
— Конечно, говорили. Война между католиками и… англичанами. Никола иногда ездил домой и мне все рассказывал. И даже то, что Римский папа побеждает.
Крыса разражается своим придушенным хохотом и от смеха роняет цепь.
— Силен врать твой Никола! Весь мир воюет, все люди. Надо же время от времени расчищать место, как вот в больнице. И тогда всем раздают ружья.
Не станет же он ему говорить, что Голубой Человек главнее Папы и знает про войну в сто раз больше, чем он, Крыса, которого и в армию-то не берут. Но это секрет. И он молчит.
— Мне надо кой-куда, — говорит он.
Серебряная цепь снова завертелась, да так быстро, что превратилась в сплошное неподвижное колесо.
— Мы сходим с тобой в сад священника. Там есть отличное большое дерево, все обвитое диким виноградом.
— А почему все уехали отсюда?
— Сначала обрадовались, что можно будет наконец заработать. Здесь ведь каждый грош с трудом достается! А потом тех, кто остался, забрали силком.
— А Марсель не солдат. Он моряк.
— Он-то моряк, да служба у него хреновая, и флот ненастоящий: ни пушек, ни торпед.
— Много ты знаешь! Самый настоящий флот, корабль Марселя два раза чуть не потопили. Он даже отморозил обе ноги у самого Северного полюса.
Теперь он был действительно возмущен, не мог же он допустить, чтобы Крыса молол невесть что. Марсель плавал в море среди льдин, его корабль напоролся на торпеду, пущенную настоящей подводной лодкой, а у ящика с провизией дежурили вооруженные револьверами часовые и выдавали по одному сухарю в день, чтоб надольше хватило, и угрозами заставляли матросов грести, чтобы они все целиком не замерзли, — а Крыса еще смеет говорить, что флот ненастоящий!
— Ну, ну, не злись, дурачок! О'кэй, пусть будет настоящий, корабли там взлетают на воздух, как хлопушки.
— А как же ты?
Крыса не отвечает, он все раскручивает свою цепь и, вертясь на каблуках, отходит в сторону. При каждом повороте его длинные черные космы взлетают вверх, а потом падают на глаза.
Ни на ребенка, ни на взрослого Крыса не похож. Да теперь уж и поздно взрослеть. Никогда он не будет ни отцом, ни возницей на повозке с бочками, ни полицейским, ни чьим-нибудь дядей, ни даже солдатом и тем более моряком. И дышит он так, будто уже пробежал всю дистанцию, будто обогнал свой возраст, так его и не догнав. Крыса возвращается, присаживается на ступеньку и шумно дышит, не обращая внимания, что пот стекает у него со лба и капает даже на руки.
— Я видел, как тебя вчера привезли полицейские, автомобиль, правда, был обычный. Но я их за версту чую.
— Ну, а ты, я же тебя спрашиваю?
— Я раз, правда, попался, но теперь шалишь. И в больницу не поеду.
— Я хочу сказать, почему ты не на войне?
— Не гожусь для их пулеметов. Легкие у меня не те… чтобы подставлять грудь под пули, надо быть здоровым. А потом, меня ведь три года держали за решеткой эти скоты, а сами они, между прочим, тоже своей шкурой рисковать не собираются.
— А если б ты мог, ты бы пошел на войну?
— Еще чего! Ты только представь себе — я с ружьем стану убивать людей, которых и в глаза-то не видел. А возвращаются оттуда либо вперед ногами, либо вовсе без ног, но зато с медалью.
— Ты, значит, не храбрый?
Крыса падает па спину и хватается за бока от смеха.
— Между прочим, ничего тут смешного нет.
— Как это нет, когда ничего смешнее я в жизни не слыхивал? Торговать своей смертью — по-твоему, храбрость? Это, дурачок, просто убожество и недостаток воображения.
— Ты знаешь тех, кого убили?
— Человек десять, не меньше. А теперь они сотнями посыплются: там теперь такая музыка начнется. Раньше они были далеко друг от друга. Теперь их свели лицом к лицу, а земли за спиной нет, драпать некуда. Годков через десять об этом никто и не вспомнит. Но эти-то даже не успеют свои двадцать лет отпраздновать!
Крыса легонько подтягивает цепь по каменным ступеням, и она извивается, как змея, а он посмеивается над чем-то известным лишь ему одному.
Под старым одеялом — он теперь смутно припоминает — было так жарко, что они начали раздеваться, а когда девочка осталась совсем голышом, одеяло вдруг исчезло. Он слегка смущен этим воспоминанием, потому что опасается, вдруг Крыса тоже все помнит. И он поспешно спрашивает:
— А чем ты болен?
— Я же сказал: легкие у меня слабые. Скоротечная чахотка. Ясно тебе?
Он прерывисто дышит, и хрипы вырываются у него из груди вместе со смехом.
— А почему ты не хочешь лечь в больницу?
— Потому что это как война: оттуда не возвращаются, а если и возвращаются, то такие тощие, что зимой ветер подует — и человека нет.
— А тебе не страшно?
Крыса погружает в его глаза свой зелено-кошачий взгляд, и голос у него становится низким и взрослым — и от этого голоса на горячие камни веет холодом.
— То же самое было у моей сестры: она умерла. И у твоей матери, и у многих ребят, которые и до двадцати-то не дотянули. Они у меня на глазах поумирали. Так что… когда известно, чего ждать, уже не страшно. Даже наоборот, знаешь, что хоть напоследок можешь пожить в свое удовольствие.
Он вскакивает, отстегивает от пояса цепь и спрыгивает на тротуар. Пьеро догоняет его, и они вместе направляются к дядиному дому.
— Что ты делал в церкви?
— Меня гулять послали.
— Вот, вот, вечно они посылают детей гулять. А потом удивляются, что из них вырастают уличные мальчишки. Давай поиграем! Беги вперед.
Крыса на свой лад сумел освободить его от какого-то тягостного чувства, и теперь ему дышится почти так же легко, как если бы он все еще был там и лежал бы на животе в пыли, читая Китайцу какую-нибудь историю, а Китаец слушал бы его, разинув рот и забыв про муравьев, хотя все равно ни слова бы не понял.
— А как тебя по-настоящему зовут?
Крыса выбрасывает цепь вперед, словно хочет метнуть ее куда-то далеко, но из рук не выпускает.
— Гастон. Но так меня только мать называет. А она до того меня боится, что никогда со мной не разговаривает.
— Скажи, Гастон, а зачем они заставляют тебя ложиться в больницу?
— А ну беги, тебе говорят! Тут дело не во мне, а в других. Я ведь заразный. А заразных держат взаперти, как диких зверей.
Пожалуй, он мог бы полюбить Крысу, ведь Крыса, наверно, только потому такой злой, что его даже больного не оставляют в покое. Чтобы доставить Гастону удовольствие, он пускается бежать задом наперед и улыбается ему.
— А почему тебя прозвали Крысой?
— Сам не знаю. Меня так еще в школе звали. Может, потому, что я был такой тощий, что мог пролезть в любую дыру.
— А ты не обижаешься? Прозвище-то не очень красивое.
— Скажешь тоже! Крыса — самое умное животное, я тебе как-нибудь объясню.
И тут же, без предупреждения, слегка подавшись вперед, он запускает в него цепью, она обвивается вокруг щиколотки, но это совсем не больно. Крыса сразу подходит и освобождает его.
— Как тебе нравится моя игрушка? Пошли отольем. А потом к нам.
Крыса ведет его к себе через какой-то странный прямоугольный проход, пробитый прямо в стене дома — он и не знал, что бывают дома с дыркой посередине, — там темно и пахнет мочой, но они сразу же выныривают на залитую солнцем лужайку: трава, видно, оттого такая высокая, выше головы, что здесь коров не пасут, она вся усеяна маргаритками и маленькими желтыми цветами вроде колокольчиков, которые осыпаются при первом прикосновении; посередине идет тропинка прямо к галерее с полупровалившейся ржавой крышей. Где-то в траве рычит собака.
— Заткни пасть, Люцифер! Пожалуйте в мой замок, здесь мои угодья. Землица — первый сорт!
На веревках сушатся облепленные мошками простыни, кругом жужжат пчелы. Пес тут же замолкает.
— А вот еще сооруженьице, красота! Есть на что посмотреть, повыше любого небоскреба…
Длинная белая рука Гастона указывает куда-то вверх: огромные стальные клетки, упирающиеся в землю своими лапами между низенькими домиками, громоздятся друг на друга, уходят в небо все выше и выше и заканчиваются двумя исполинскими каменными колоннами, которые выше самой высокой церкви на свете, они словно гигантское окно, повисшее в воздухе.