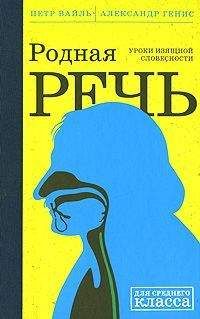Ознакомительная версия.
В один из дней, несколько лет спустя, мой спектакль, поставленный в Новом театре, играли в помещении Театра сатиры. Событие не то чтобы знаменательное, но и не совсем рядовое. Вместе с постановщиком спектакля и композитором Лешей Черным, написавшим к нему музыку, мы отправились в театр. Эдик Нонин тоже поехал, он в то время жил у меня в Малаховке. После спектакля пошли домой к Черному, в кооператив композиторов в Каретном ряду, отметить это дело. За столом разговорились и случайно выяснилось, что Черный и Нонин в одно и то же время были в поселке Нижний Ингаш под Абаканом, Леша там служил во внутренних войсках. Пошли, как всегда в таких случаях, вопросы: того знаешь, а того знаешь? Ответы странным образом не совпадали. Черный никак не мог понять, в чем дело. Я объяснил:
— Вы были в Нижнем Ингаше с разных сторон колючки. Ты охранял, а он сидел.
Недавно в Интернете мне попалась книга правозащитника Генриха Алтуняна «Цена свободы. Воспоминания диссидента», отбывавшего в Нижнем Ингаше семилетний срок. В ней я прочитал:
«И еще была интересная встреча в Н. Ингаше. С одним из очередных этапов в зону прибыл симпатичный молодой человек, который резко выделялся умными глазами и вообще интеллигентностью. Это был норильский поэт Эдуард Нонин. Мы с ним сдружились. Он весьма снисходительно отнесся к моим стихотворным опытам, много и интересно рассказывал о стихосложении, о поэтах».
В книге цитировались стихи Эдика, посвященные Алтуняну:
Когда развеется туман
И ветры вешние подуют
И «враг народа» Алтунян
Свои стихи опубликует, —
У Бурмистровича Ильи —
Такого же «врага народа»,
Давным давно в кругу семьи
Жующего мацу свободы,
При виде генриховых книг
Гримасою пренебреженья
Лицо перекосится в миг
Или позднее на мгновенье,
И скажет он жене — Обман,
Невежество! Абсурд! Халтура!
Подумать только, — Алтунян —
И тоже прет в литературу!..
Алтунян далее пишет:
«Мне нравились его стихи, стихи профессионала. Помню, он рассказывал, что незадолго до ареста получил премию журнала „Сельская молодежь“ за детские стихи „О двух пингвинах“. А попал Эдуард в зону за неуплату алиментов, получив смехотворный срок — полгода. В зоне он был всегда несколько месяцев, так что мое литературное образование нельзя считать даже начальным. На самом же деле он просто повздорил с одним из партийных секретарей, которые, как известно, в своем районе, городе, области или крае всегда были вершиной власти, а алименты — просто повод, зацепка. Спустя много лет Борис Чичибабин познакомил меня с прекрасным писателем Феликсом Кривиным, который только что приехал из Норильска. Он рассказал, что Нонин по-прежнему в Норильске. Больше я о нем ничего не слышал».
Эдик по-прежнему был в Норильске и нисколько не изменил своему образу жизни:
Какое дело вам, как, дервиш и бездельник,
Я плачу и смеюсь, где ем, где пью и сплю,
Что не было и нет в моих карманах денег,
Что женщина ушла, которую люблю?..
Бывшая жена уже не приставала к нему с алиментами, махнула рукой. Новая (подарившая ему сына) и не возникала, принимала мужа, как климат. В один из приездов в Норильск (мне приходилось довольно часто бывать там в командировках) я предложил:
— Приезжай, Эдик, ко мне. Дом большой, места хватит. Пиши стихи и ни о чем не думай, как-нибудь прокормлю.
Незадолго до этого я купил под Москвой дом и, как в свое время Чехов, настойчиво созывал друзей в гости.
Он согласился. Из этой затеи ничего не вышло. Полгода он прожил у меня и написал всего шесть коротеньких стихов. Однажды признался:
— Не пишется. Знаю, что писать должен, потому писать не могу. Всегда мечтал, чтобы ничего не мешало. Оказывается, нужно, чтобы мешало. Не свобода нужна, а мечта о свободе.
Он вернулся домой, устроился смотрителем на газопроводе в тундре на трассе «Мессояха — Норильск». Вот эта работа была по нему: всего раз в месяц нужно утром встать и дойти до вахтового автобуса. А потом уже все делалось само собой: местный аэропорт «Валек», вертолет до точки, а там сам себе хозяин — пять раз в день снимай показания приборов, а в остальное время пиши стихи. Он много тогда написал. Словно чувствовал, что недолго ему осталось. Одно из последних его стихотворений называлось «Сыну»:
Но пока звучит над головою
Еле слышная моя строка,
Мальчик мой, я буду жить с тобою,
Будто не ушедший на века.
Эдик Нонин умер от рака. В Норильске нет долгожителей. После его смерти жена увезла его сына в Израиль. Говорят, там живут дольше.
И вот странно: чем больше отдаляется прошлое, тем крупнее, значительнее становится образ моего друга. Человека, который даже в те годы умел быть свободным. И уже не шуткой воспринимаются слова, сказанные в шутку судьей Славой Ханжиным о первом секретаре Норильского горкома партии Савчуке:
— Какой-то мелкий партийный чиновник во времена поэта Эдуарда Нонина.
Я сказал, что за полгода у меня Эдик написал шесть коротких стихов. Вот один из них:
В окружении волос
Лик пи*ды страшней бандита.
Когда же волосы обриты,
То жалко бедную до слез.
Должен покаяться. Не обнаружив у Даля слова «былички», я самонадеянно решил, что изобрел его сам. Увы, нет. Гугль поправил:
«Основное отличие быличек от преданий и легенд состоит в том, что все описываемое в них привязывается к относительно недавнему времени, героями которых являются рассказчики и их современники: знакомые, родственники, представители предыдущего поколения, но всегда конкретные люди…»
(Этнографическая электронная энциклопедия «Традиционная культура народов европейского северо-востока России»).
У каждого человека бывал момент, когда жизнь его висела на волоске. Но немногие, радуясь тому, что чудом удалось избежать смертельной опасности, осознают, что это был знак свыше — благословение, божественное позволение жить дальше.
Еще некоторое время.
В 1959 году я окончил Ленинградский Технологический институт имени Ленсовета по специальности «электротермия». До сих пор не понимаю, зачем я в этот институт поступил и каким образом умудрился его окончить. Почему умудрился, знаю: смерть как не хотелось загреметь в армию. Ни о какой дедовщине тогда разговоров не было, но стоило только представить, что придется три года (в те времена служили три года) бухать кирзой по плацу, как вся моя вольнолюбивая натура бурно протестовала и отзывалась мобилизацией всего организма.
Отчисляли меня шесть раз. В основном, за прогулы. Но и за академическую неуспеваемость тоже. И не сказать, что я был такой уж тупой. Попробуйте-ка за одну ночь проштудировать четыре увесистых тома «Органической химии» Чичибабина и утром на экзамене получить «удовлетворительно». А мне однажды удалось. Нужно ли говорить, что уже через час от всей органической химии в голове у меня осталась только фамилия автора учебника?
Поступление в ленинградскую «техноложку» было следствием, как ни странно, моего снобизма. Казалось бы, откуда взяться снобизму в семнадцатилетнем юнце из семьи простых школьных учителей, всю недолгую жизнь прожившего в захолустном Рыбинске, потом в северной, такой же захолустной Ухте и в маленьких поселках под Краснодаром. А вот поди ж ты — сидело где-то внутри презрительное недоверие к общему мнению. И сейчас сидит. Лишь большим усилием воли заставляю себя пойти на фильм, о котором много говорят, или прочитать книгу, вызвавшую всеобщее восхищение.
В те годы очень популярна была профессия геолога. Поэтому я сразу ее отверг. Мечтой всех старшеклассников было учиться в Москве. Отверг и Москву. Пошлый, базарный город. (Хотя ни разу в нем не был). Другое дело Ленинград (в котором тоже никогда не был). Невы державное теченье, береговой ее гранит. Петропавловская крепость, на шпиле которой одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса.
И вот в знойный сонный послеполуденный час отец, завуч поселковой школы, внушительных габаритов потомственный кубанский казак с короткими седыми волосами и красным лицом, провожает меня до калитки, снисходительно треплет по плечу, говорит: «Ну, с богом» и уходит в дом досыпать. А я с чемоданом тащусь по солнцепеку до разъезда, на котором поезд «Новороссийск — Ленинград» останавливается на две минуты, и уезжаю поступать в педагогический институт имени Герцена.
Следуя семейной традиции.
Ознакомительная версия.