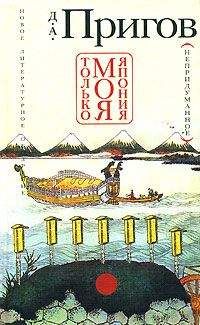Я знаю этот критический момент достижения середины дистанции. Кажется, что в перенапрягшейся груди разом лопнут бесчисленные маленькие жесткие сосудики, и капельки крови оросят всю внутреннюю поверхность почти застекляневшей грудной клетки. Каменные ноги, потеряв всякую принадлежность к телу и идеалистически настроенной голове, вот-вот остановятся на какой-либо следующей ступеньке. Останавливаются. Замирают, вступая с ней в прямое и неотменяемое родство, гораздо более глубокое и основательное, чем со всем остатным и бесполезным без них для движения в любом направлении, мясом организма. Кажется — все! Конец! Где вы, светлые дни счастья и утех?! Но небольшое усилие воли, объединяющей рассыпающееся тело — и вот ты уже почти летишь дальше в неком прямо-таки неотменямом порыве. Несешься вверх. Выше, выше и выше! Но, конечно, конечно — дыхание…. Ноги…. Им, естественно, силы и здоровья все это не прибавляет.
Тем временем блестящая верхушка Третьего Рейха продолжает свое восхождение на непредвиденную высоту. Трудно приходится маленькому и колченогенькому Геббельсу. Ох, как трудно! Шаг ступенек намного превышает возможности его тоненьких и недоразвитых ножек. Объем легких не обеспечивает достаточной вентиляции организма. Крохотное скукоженное сердечко яростно и беспомощно гонит мизерный объем непродуктивной крови. Вобщем, тяжело. Не под силу. Но тут он вдруг резво вспрыгивает на протянутые руки своего огромного мясистого рыжего адьютанта и по-детски удобно устраивается в его ласковых и крепких объятиях. Наподобие маленьких тонконогих беспрерывно вздрагивающих собаченок блошиного размера, столь ныне популярных у городского населения западного мира. Это для него привычно. И для адъютанта тоже. Худенькое личико министра пропаганды исполняется спокойствием и умиротворением, насколько это возможно при его тонких губах, растянутых дефицитом кожи в некой постоянной гримасе. Как у астматика. Но на руках адьютанта его дыхание выравнивается. Спина выпрямляется. Судорога, постоянно сводящая левую полубезжизненную ножку, оставляет его.
Все партийное окружение мягкой улыбкой отмечает это как должное. Да уж и не раз были свидетелями тому. Ему простительно. Его сила не в физике, а в духе. Собственно, у всех у них сила в духе. Но у него особенно. Хотя нет, нет, их сила, конечно же, в духе, но и в здоровом, неодолимом и прямо-таки стальном телесном организме. Это-то понятно. Сейчас, конечно, не совсем. Но тогда, в наше время все было ясно с первого взгляда — стальные мускулы, стальная воля, стальной взгляд, недрогнувшая рука с карающим неодолимым стальным мечем.
.
Однако, куда как тяжелее приходится самому тучному из них, тяжелому и импозантному лидеру нацистского режима — Герингу. Все-таки — 167 килограммов живого нечеловеческого веса. Плюс тяжесть шикарного коверкотового костюма и груз металла бесчисленных позвякивающих наград и украшений. В сумме килограмм на 200–250 потянет. Или около того — кто точно подсчитывал-взвешивал? Далеко отстав от всех, он тоскливо взглядывает вверх, проклиная всю эту нелепую затею с кем-то порекомендованным им художником. Хотя он и есть самый страстный из них, прямо до самозабвения, и жадный до безумия обожатель, но именно что великого классического искусства. А это… — он заранее знает. Он единственный знает заранее. Да вот по чужой прихоти должен страдать. Бедный, бедный Геринг! Кто пожалеет его? Так ведь и не пожалели.
Фюрер первым достигает верхней площадки. Останавливается перевести дух и с удовлетворением взглядывает вниз на расстянувшуюся шеренгу своих догоняющих соратников.
Постояв, придя в норму и на дожидаясь далеко отставшего, но слышного отсюда Геринга с его шумными вздохами и проклятьями, все отправляются дальше. Уже в горизонтальный путь. По очереди наклоняя голову пред низкой притолокой, входят в некое странное глубоко-затененное длинное кишкообразное чердачное помещение без окон. Легкие лучики света проникают сквозь трещины, разного сечения и калибра отверствия в крыше, поочередно попадая на лица и одежду следующих гуськом друг за другом еле различимых людей. Образуется причудливая картина перебегания этих игривых лучиков с одного движущегося предмета на другой. Эдакий огромный кинетический объект в масштабе живого времени. Ох, если бы сим существам в черных зловещих мундирах, так и остаться в истории и вечности этим самым вот завлекательным и весело играющим в пространстве объектом! Да не тут-то было.
Поперек толстенных обнаженных деревянных балок положен легкий покачивающийся настил, поскрипывающий даже под абсолютно невесомым Геббельсом, уже соскочившим с по-матерински нежных и заботливых рук огромного адътанта. Теперь он чуть нервно и неровно подпрыгивая, эдак бочком, бочком бежит уже дальше сам. Он находится в состоянии крайнего возбуждения. Гораздо большего, чем все прочие. Он всегда перевозбужден. Да и все, происходящее в пределах исскуства и культуры, понятно дело — его прямое занятие и неустанная забота.
Узкий настил сконструирован из нескончаемого ряда двух параллельно уложенных впритык легких досок, вздрагивающих и вскидывающихся даже под почти невесомой женской ножкой. Были, были тому свидетели! Можно себе представить, вернее, практически, невозможно, как пройдет, протащится по нему тяжеленный Герман. Бедный Герман! Ну, это его проблемы. Ничего, пройдет, чтобы не отстать от других, не остаться вне и за. Проходил и не раз. Кроме самого последнего много-прискорбного для него раза. Но не про то сейчас речь.
Молча идут в затылок, боясь оступиться и инстинктивно пригибая головы. Молчаливая кавалькада растянулась на всю длину немалого помещения. Где-то побоку и вдали прошмыгивают, шумят и попискивают шаловливые, лишенные всякого пиитета к такому высокому собранию многовластных личностей, мыши. Возможно и крысы. Но не кошки. Нет, не они. Странно, при таком количестве живой и абсолютно бесплатной пищи и при их постоянной повсеместной тогдашней недокормленности я ни разу, проходя по этой колеблющейся и вздрагивающей "дороге жизни", не встречал существ кошачьей породы. Надеюсь, объяснять нет необходимости? Я имею в виду, естественно, не кошек, но "дорогу жизни". А и все равно не объяснишь. Хотя я не совсем прав. Это опять-таки касается именно что кошек. Я видел иногда заглядывающих сюда отдельных индивидов этой породы. Но вид их был всегда столь безразличен и идендиферентен не только что к мелким и неблагородным тварям из породы грызунов, но и ко всему остальному великому и необозримому свету. То-есть неимоверной духовной высоты и отрешенности были существа. Но это так, к слову.
Визитеры тем временем подходят к железной двери в собственно мастерскую. Почему железная? А как же иначе — мало ли кому в голову взбредет взобраться сюда. Бывали даже случаи проникновения и с крыши через слуховые чердачные окна. Да, народ неимоверно изобретателен. Благо, что воровать нечего. Не картины же. Особенно такие, так называемые, авангардные — невнятные и бессмысленные.
Скапливаются в небольшом предбаннике, освещенном слабенькой, свисаюшей откуда-то из мохнатой потьмы, с потолка на пустом проводе, оголенной лампочкой в 60 свечей. Темновато. И тесновато. Один из адьютантов из-за спины фюрера протягивает руку над его плечом и нажимает кнопку. Внутри мастерской приглушенно раздается звонок и следом шаркующие приближающиеся шаги.
Художник с привычной улыбкой растворяет дверь, и пропускает внутрь группу посетителей.
Описываю мастерскую такой, как запомнил ее в почти доскональных подробностях во время своих частых посещений и упоминаемых нескончаемых бесед.
Первое большое помешение с покатым потолком было ясно и легко освещаемо большим рядом окон вдоль правой от входа стены, чуть наклоненных и обращенных прямо в небо. Ясное, но, в основном, пасмурное московское небо 50-80х годов 20 века. Но и небо надежд, упований и несомненных немалых свершений многочисленных обитателей столицы нашей, сурово отделенной тогда от всех остальных, части света.
Это первое помещение, я бы даже сказал — зала, служила, зачастую, экспозиционным помещением для показа друзьям и прочим визитерам новых работ художника. Иногда здесь размещались и целые впечатляющего размера инсталляции, занимавших все ее пространство. То-есть, нечто непонятное, сооруженное, сотворенное из непонятных же материалов заполняло весь кубический объем залы. Правда, материалы были как раз вот очень даже и понятны, знакомы и сразу узнаваемы — мусор всякий, бумажки, баночки, крышечки, обломки карандашиков и тому подобное. Но все вместе — черт-те что. Нонсенс. Сапоги всмятку. Но, понятное дело, квалифицируемо подобным образом лишь неинформированными и непосвященными. Да, да, именно что так. Странное было искусство. Да, вобщем-то, если оценивать его в длинной и мощной перспективе развития культуры всего человечества на всем его протяжении — не страннее всего прочего.