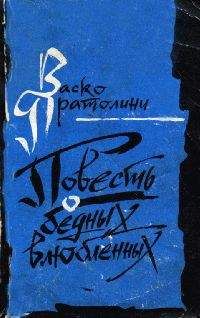Но теперь Абе была невнимательна к своему приемному сынку-кузену. Изящная и легкая в своих новых платьях, она часто бросала меня, уходя с сестрами на «подворье чудес». Пианино с двумя октавами все еще стояло в дядином доме, были здесь и тряпичные куклы, и граммофон с золоченой трубой и с танцовщицей; но и люди и вещи немели перед бабушкой, перед ее безутешным горем.
Я и бабушка оставались с дядей. Из окна, выходившего на дорогу, я видел за мутными стеклами заросли камыша, с другой стороны — переезд у боен, и все это казалось мне далеким воспоминанием. Дядя без конца повторял «маме», как он называл бабушку:
— Не падай духом, мама, что ж теперь делать — надо примириться.
Однажды дядя сказал:
— Теперь его скоро демобилизуют.
Папа приехал неожиданно. Вечером раздался стук в дверь, я побежал отворять — это был папа. Я сразу узнал его, хотя он сильно изменился. На голове у него была серая шапка пирожком и такая же серая форма, какую выдавали демобилизованным, — длинные брюки без обмоток, длинная просторная куртка, которая била его по ногам, черные лычки капрала. Он подхватил меня на руки, поцеловал, а я смотрел ему в глаза, светившиеся радостью, — в голубые, незнакомые мне глаза.
Бабушка встретила нас в гостиной, плача без слез, на лице ее застыла гримаса скорби.
С приездом папы наш дом немного повеселел; зажгли большую лампу, и гостиная в тот вечер вернула себе дневные краски.
Отец надолго заперся в маминой комнате и вышел оттуда в штатском, немного грустный и неловкий; от него чуть-чуть пахло женскими духами.
В тот же вечер мы с отцом пошли погулять; миновав нашу молчаливую улицу, мы долго бродили по центру. И тут я как бы впервые открыл город. Это было непохоже на печальную прогулку с бабушкой от дома до церкви Риччи, а потом по ярко освещенной набережной, любоваться которой мне мешала бабушкина рука, крепко сжимавшая мою руку. В тот вечер город сам шел мне навстречу. Отец словно хотел вновь подружиться с улицами и домами, кафе и лавочками. Мне явился новый, незнакомый мир: женщины в роскошных манто, яркие и благоухающие; мужчины, похожие друг на друга в серых, коричневых и черных костюмах элегантного покроя, в высоких шляпах, с задорно торчащими усами; компании шикарных и развязных молодых людей; собаки, словно приложение к хозяевам, благовоспитанные псы с грустными глазами; продавщицы цветов на каждом углу, в большинстве своем девочки с коротко остриженными волосами и грустным, как у собак, взглядом; на перекрестке сидела старуха и предлагала «спички и шнурки для ботинок» заунывным голосом, словно читала молитву.
Мною овладело непривычное возбуждение: словно горячая волна крови, меня захлестнуло желание иметь все то, что красовалось в освещенных витринах, на распродаже по единым ценам, где вещи фигурировали под арифметическими обозначениями — «сорок восемь», «тридцать три»; на других были приколоты загадочные билетики: «10 взносов по 48» или «20 взносов по 33» — не цены, а сущая алгебра.
От прилавков кондитерских исходил теплый, дразнящий аромат ванили и печенья. Повсюду было очень много народу: люди, толкаясь и перешучиваясь, переполняли трамваи, двигавшиеся медленно и непрерывно звонившие, ехали в забавных экипажах с кучерами в лоснящихся цилиндрах на высоких козлах, в мотоциклетках с коляской, словно восседали на карусели.
Потом мы с отцом зашли в кафе. Там был очень длинный зал с зеркалами и красной бархатной обивкой; все места были заняты, в зале стоял табачный дым, гул голосов; в проходах и между столиками теснились шумные посетители, слышался женский смех. Официанты пробирались по залу, словно акробаты и жонглеры, высоко держа в руке подносы с дымящимися чашками кофе и вазочками со сладостями.
Папа издали узнал одного из официантов и пробрался к нему.
— Чезаре! — позвал он.
Официант — толстый, солидный мужчина, казалось бы, только переодетый официантом, — обернулся и радостно вскрикнул. Он провел нас в кухню, и там братья обнялись; при этом мой новый дядюшка, которого я совсем не помнил, тут же громко выкрикнул повару заказ.
— Как ты вырос! — сказал он, приласкав меня.
Мы немного посидели на кухне среди гомона голосов, беготни официантов, звона графинов и посуды, аромата молока и шоколада; дядя уходил и возвращался, а меня угостили стаканчиком кофе со сбитыми сливками.
С тех пор отец стал часто брать меня с собой. Он гордился мной и показывал меня друзьям и знакомым.
— Вот мой мальчуган! — говорил он. — Наследник.
Опора моей старости.
Мы на целые дни уходили из дому, а когда возвращались, нас встречал прежний угрюмый полумрак и черная фигура бабушки в глубине комнаты. Лампа едва мерцала над столом в гостиной, где Кадорин когда-то подражал свисту дрозда, чтобы меня позабавить; мои глаза, привыкшие к яркому свету кафе, к ослепительным витринам, едва различали выцветший голубой диван.
Я научился ездить на велосипеде, и мы с отцом отирать к Кастель ди Винчильята и к монастырю, а потом до самого Сесто вдоль полотна железной дороги. Мы прокатились и по реке, взяв лодку, далеко-далеко, туда, где уж не было домов и куда ни глянешь — только деревья да вода; отец греб с увлечением, пыхтя, как мальчишка; время от времени нам приходилось тащить лодку волоком, чтобы обойти рыболовные запруды. В тот вечер мы вернулись поздно, усталые, но гордые, как герои.
Однажды мы отправились в бильярдный подвал, где отца встретили радостными возгласами и похлопывали по спине. Это был большой шумный зал со сводчатым no-толком; помещение благодаря умело устроенным перегородкам было разделено на уютные кабинеты, где в облаках табачного дыма стояли бильярды. Зрители сидели поодаль или стояли у стен; казалось, они участвуют в каком-то обряде. Игроки — без пиджаков, в маленьких голубых фартуках — склонились над зеленым сукном. Отец скоро перестал отнекиваться, усадил меня на скамеечку и, крикнув: «Лимонада моему сынишке!» — тоже снял пиджак и надел голубой фартук. Тут я заметил, что под брюками у него намечается брюшко и что он умеет хмуриться. Но он хмурился как-то по-особенному — мимолетно, его голубые глаза, казалось, принимали серьезное выра-жение лишь в шутку. В это мгновение я относился к отцу как к старшему другу, но с той разницей, что разлука' с ним меня бы не огорчила; мне подумалось, что я не стал бы грустить без него.
Отец прикидывал на руке белые и красные шары и желтый шар — биту, шутливо уверял зрителей, что разучился играть в карамболь, и наконец, нахмурившись по-мальчишески, разогнал по зеленому сукну бильярда цветные шары, стремительными и умелыми ударами направляя их то в одну, то в другую сторону. Словно обезумевшие цветные звери, шары носились взад и вперед по мягкому зеленому пастбищу, сшибая качающиеся кегли.
В тесном кабинете было густо накурено, шум и выкрики ненадолго сменялись внезапной тишиной, когда шары сталкивались, а затем следовал взрыв ругательств или похвал по адресу умелого игрока. Время тянулось медленно, дым поднимался к сводам, окутывал лампы, подвешенные над бильярдами, завиваясь огромной плотной спиралью; в дыму, словно в тумане, маячили фигуры отца и других игроков, доносились голоса, стук шаров. Меня начало клонить ко сну. В жарком тумане, положив руки на колени и широко раскрыв глаза, я уже почти равнодушно следил за бегом цветных шаров по сукну, за падением кеглей, разлетавшихся по бильярду. В конце концов мне стало казаться, что, кроме этого дыма, голосов и мечущихся цветных пятен, ничего более не существует. Я словно попал в незнакомый мир, который должен был постигнуть, но оказался не в состоянии сделать это: голова моя отяжелела, меня охватило тупое оцепенение, все тело покрылось испариной не то от жары, не то от страха. Вероятно, я просидел в изнеможении несколько часов, не в силах ничего сообразить. Я пытался вспомнить наш дом, бабушку, чтобы отвлечься от незнакомой обстановки бильярдной, но видения таяли в дыме, в гуле голосов; я чувствовал себя одиноким, ничего не помнил, ничего не сознавал. Ни голос отца, ни прикосновение его руки к моим волосам не смогли вывести меня из этого состояния. Я сидел во влажном тепле подвала, уставившись на зеленое сукно и на цветные шары, и ничего не понимал. Но вот в длинном завитке синего дыма, пробивавшегося сквозь плотный туман, и котором плавали фигуры людей и мелькали краски, я увидел маму; она по-детски хмурилась, и в ее чертах и узнал самого себя.
— Мама, — позвал я сначала шепотом. Но постепенно меня охватил испуг, я ощутил не влажное тепло подвала, а леденящие прикосновения каких-то мягких холодных повязок.
— Мама, — закричал я и разразился слезами.
Чистый свежий воздух и ласки отца постепенно привели меня в чувство. С тех пор отец долгое время не брал меня с собой. Мне давали лекарства, сладкие, как сироп. Потом начались занятия в школе, снова потянулись вечера, которые мы коротали с бабушкой в темной квартире, прежние прогулки но набережной, грустные молебны ч предпраздничные службы в церкви Риччи.