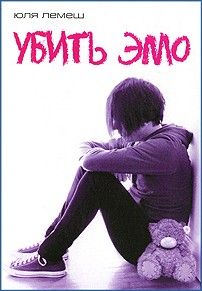– Встречаться с ней то же, что с младенцем. Я все время боюсь что‑то не то сказать или нечаянно руку сломать…
– Ты что, ей руки выкручивал?
– Да нет, что ты такое несешь? Просто возьмешь за руку, а она такая махонькая, пальчики тоненькие, того и гляди повредишь. Я не педофил. Пускай сначала повзрослеет.
Последний раз меня садировали в присутствии толпы народа за проколотый язык. На операцию я решилась по нескольким причинам. Одной из которых была двойка за сочинение по литературе. Я честно написала про суть философии эмо. Как понимаю, так и написала. Даже с интернета почти ничего не тырила. Старалась быть максимально искренней. А училка сказала, что русский – на пять, а содержание не соответствует теме. Кстати, два и пять получается отметка на три с половиной или на четыре с минусом, а влепили двойку. Несправедливо! Особенно когда твои мысли цитируют мерзким тоном на потеху всему классу. И они еще удивляются, что я так переживаю. А кто бы не стал?
Я взяла и проколола язык, чтоб хоть как‑то скрасить негатив. Другая причина отважного похода к дыроколу заключалась в том, что железка во рту помогает чаще ощущать себя живой. Когда что‑то мешает, то мы неосознанно обращаем на себя внимание. И более чутко воспринимаем действительность. Если у вас есть здоровые ноги, то вы про них вспоминаете только тогда, когда в ботинок попадает камушек или новая обувь натирает мозоль. Кроме того, пирсинг языка намекает на возможность промолчать, когда говорить не следует. И еще, прикольно шокировать консервативных мещан. Они так забавно говорят «фу».
Но все‑таки, как ни крути, двойка стала спусковым крючком для языковредительства.
Получается, что из‑за этой поганой двойки я потом долго не могла говорить. У меня, оказывается, не то аллергия, не то инфекцию занесли, не то я сама инфекция.
Язык был как арбуз и не помещался во рту. И слюни постоянно текли, как у дога в жару.
– Кроссовок съел, а изо рта шнурки торчат, – неумно пошутил выдающийся отличник Смирнов, цитируя какой‑то древний анекдот.
И вовсе они не текли, я платком все время вытиралась. Но изо рта пахло как‑то нехорошо, это факт. Если бы было с кем целоваться, то хорошего мало.
Мамаша грозилась найти дырокола и сдать его правоохранительным органам за причинение вреда ребенку. Но я успела убрать железо, и она угомонилась. Мучения зазря. Гадость есть, а красоты никакой.
А Смирнов вообще‑то ничего, хоть и полный ботаник. Он никогда никого не осуждает и, если есть за что похвалить, – хвалит. Хотя мне от его одобрения ни тепло ни холодно.
– Я не хвалю, я так комплименты делаю, – огрызнулся Смирнов, когда я ему все это высказала.
– Ну и пень ты, Смирник. Комплимент – это когда привирают для поднятия настроения. Ну скажи, что у меня классная прическа?
Посмотрел угрюмо и молчит, гад.
– Ладно, проехали. А глаза красивые? – Если еще раз промолчит, врежу по его умной башке учебником. Или язык покажу, чтоб в обморок грохнулся.
– Глаза очень красивые, – быстро соглашается догадливый Смирнов. – Яркие. Синие с зеленым. И ресницы очень густые. И длинные. Почти как у меня.
– Поздравляю тебя с первым комплиментом в жизни. Сходи в столовку, скушай пирожок.
– Я ничего не привирал, – признается Смирник.
– И зря. Тех, кто привирает, все любят. Запомни, пригодится.
– Спасибо, – поблагодарил этот смешной дятел и глубоко задумался.
Наверное, у него девушка появилась. Хотя представить себе эту особь я не в состоянии. Но если появилась, мои рекомендации ему точно пригодятся.
– И не стригись ты так коротко, – расщедрилась я на умные советы.
– Глаза у тебя действительно красивые, а про прически лучше говорить не будем, – ни с того ни с сего обозлился Смирнов.
Точно, девушку завел. И это правильно. Просто замечательно! Она скрасит его отравленные учебой будни. И они станут ходить, взявшись за руки, сидеть на заднем ряду в кино, есть мороженое в кафе.
А потом он ее бросит.
Потому что она – дура. Только дура может связаться с таким неблагодарным типом, как Смирнов. Надо же – я ему правильные советы раздаю, а он ничего приятного про мою прическу сказать не может.
А потом начался тайфун.
Директриса сразу после последнего урока ворвалась в наш класс гнобить меня перед всеми. В присутствии моих скукоженных родичей. Отстой заключался в том, что все заранее знали результат этого спектакля.
Придурки. И я в том числе, надо было свалить по‑тихому с последнего урока. Теперь придется выслушивать всякую муру.
Где‑то после проникновенного «как тебе не совестно!» по непонятным причинам мне вдруг дали слово. Как преступнику перед вынесением страшного окончательного приговора.
– Как можно оскорблять человека за то, что он сам распоряжается своим имуществом? Это мое тело. Пожалуй, оно единственное, что по‑настоящему мое. У меня своего больше ничего и нет. Нет! – спохватилась я. – У меня есть еще и моя жизнь. Хоть и говорят, что родители подарили. Но подаренное не передаривают, правда? Значит, жизнь тоже моя собственность. Вот. Понимаете, я тоже на что‑то имею право. И волосы тоже мои. И время – мое. Когда я его трачу на такие вот собрания, то мое время потрачено впустую. А главное – я не собираюсь жить как вы. Я не аксессуар, который должен по фасону гармонировать с родителями.
Последняя фраза прозвучала слишком неуверенно. Да и остальное, по‑честному, тоже полная мура. Надо было заранее подготовиться. А то, чует мое сердце, они меня так сейчас распинать начнут, что поводов поплакать будет предостаточно.
Директриса, хоть я ей и родная племянница, снисходительно улыбалась мне, как слабоумной, а глаза как иголка, которой кровь из пальца добывают. И эта самая иголка уже прицелилась в объект. То есть в меня. Я посмотрела на нее внимательнее и вдруг поняла, что она жутко смахивает на перекормленную раскрашенную жабу в лиловом турецком сарафане. И мне стало смешно. А вот смеяться не стоило. Жаба покрылась нездоровым багровым румянцем. Того гляди разлетится на тысячу кусков.
Чтоб скрыть смех, я принялась кашлять.
Вот было бы здорово, если б у меня оказался туберкулез. Страшная неизлечимая форма. От которой умирают долго и мучительно. Вообразив себя с этой страшной формой в придачу, я приложила скомканный платок к губам и посмотрела, нет ли на нем пятен крови. Кроме еле заметного отпечатка помады – ничего. Мне стало невероятно грустно. Не то от отсутствия болезни, не то от безысходности.
– Это форменное безобразие, – робко пролепетала училка по химии, заискивающе поглядывая в сторону директрисы.
– Покажи нам свой язык! – потребовала та, приподнимаясь над столом, как борец сумо перед атакой.
Я ж не их язык продырявила? Хотя, по‑честному, надо бы. И не иглой, а из гранатомета. Чтоб думали, что говорят.
Немного подумав, я решила не показывать. Из принципа.
– Государство доверило нам воспитание подрастающего поколения. А некоторые несознательные подростки считают себя умнее других. Вот скажи, ты считаешь себя умнее нашего президента? – У физрука от тотальной преданности президенту слегка перекосило лицо.
Может у него зуб болит, у бедняжки? Или он действительно так обожает главу государства? Который, естественно, умнее меня и всех физруков на свете. Хотя я бы ни за какие блага не захотела работать на его месте. Президенты слишком на виду. А я страшно не люблю, когда нельзя хоть на время спрятаться. Кроме того, президенты обязаны быть как японцы. У них правило такое, что б ни случилось, надо непременно сохранить лицо. То есть – эмоции на фиг. Может, они потом дома отрываются? Вот бы с женой президента поговорить. Хотя, наверное, президентов никто не обижает. Боятся. Но уж повеселиться‑то ему никто не запрещает. Наверняка веселится, когда повод есть.
– Отвечай, когда спрашивают, – рявкнул физрук.
– Откуда мне знать, – нечаянно вырвалось у меня.
У физрука на меня зуб. Не тот, который болит, а гораздо хуже. Он страшно обожает играть в волейбол и уверен, что все только и мечтают кидаться друг в друга тяжелыми круглыми предметами. А я – нет. Потому что меня всегда пытаются приложить мячом по лицу. И иногда попадают. Я по какой‑то странной причине не могу отбить мяч, летящий в лицо. Столбняк нападает.
Когда я в очередной раз отказалась участвовать в баллистических сражениях, он выстроил весь класс и сказал, что сейчас я буду делать переворот на брусьях. Я ему сказала, что это вряд ли.
Все стояли и смотрели, что из этой затеи получится. На перекладину он меня подсадил, ногу помог перекинуть и говорит:
– Переворачивайся, я тебя придержу.