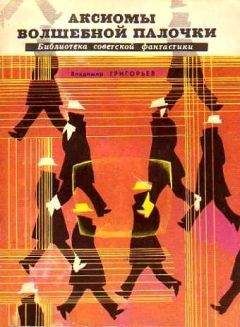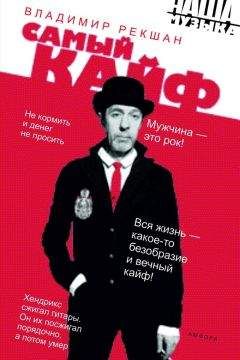Коля Васин сказал:
— Есть идеи. Есть замечательные идеи. Сейчас придет наш человек и все расскажет, а пока, извини, старик, я поставлю Джона.
Он поставил Джона, закрыл глаза и, сидя в кресле, стад раскачиваться под музыку, кайфовать, а я стал ждать «нашего человека», поскольку ехал на Ржевку не кайфовать, а слушать идеи.
Скоро «наш» появился. Худощавый и белокурый, с нервным лицом, с прозрачными глазами, одетый в серый костюм, светлую рубашку, галстук. На лацкане пиджака поблескивал комсомольский значок, и не просто значок, а с золотой веточкой. Такой значок должен был говорить об особых полномочиях. Тогда я представлял «нашего человека» другим — волосатиком в поношенной экипировке, так я выглядел сам, но Коля Васин предупреждал — придет «наш», а я верил Коле Васину.
— Арсентьев, — представился человек с полномочиями.
Он смотрелся года на двадцать четыре.
Арсентьев сел, потер зябко ладонью о ладонь, помолчал и начал говорить, словно не для меня, а вообще, лишь изредка бросая короткие взгляды:
— Есть идея организовать клуб. Некое сообщество людей,, объединенных одними интересами, и таковой опыт уже имеется в организации фотоклубов, филателистических и нумизматических клубов. С молодежью, увлекающейся рок-музыкой, дело обстоит не просто, но есть мнение, которое я представляю, что стоит попробовать и объединить их, и сбить нездоровый ажиотаж, который музыкантам только вредит, и дать рост наиболее талантливому.
— «Санкт-Петербург» — самая крутая команда в городе! — это Коля Васин перестал кайфовать и включился в разговор.
Арсентьев посмотрел на меня внимательно и продолжил:
— Но и много, естественно, противников. Поэтому мы должны сперва организоваться, представить программу действий, провести ряд мероприятий и поставить противников! леред фактом. Эта анархия, это «каждый за себя» ничего не даст. Может, стоит подумать и приобрести общую клубную аппаратуру и тем гарантировать профессиональное звучание каждого выступления.
— Да, да, аппаратура нужна! — Я был согласен. Я был согласен объединиться хоть с чертом лысым, чтобы гарантировать профессиональное звучание, и не мог сдержать волнение перед «нашим человеком», обладающим полномочиями.
— Уже согласились «Аргонавты», «Белые стрелы», «Славяне» и даже «Фламинго». Мы победим, старик! — воскликнул Коля Васин.
Помню, опять было холодно, но лед на Неве уже сошел. Мне велели явиться в один из воскресных дней к Медному всаднику, что я и сделал. Большая группа волосатиков по велению Арсентьева также явилась к памятнику. По ходу приветствуя знакомых, подхожу к Летающему Суставу.
— Чего ждем? Что-то будет, Мишка?
— А все ништяк, чувачок, ништяк! Зачем-то ведь звали.
Я завидовал простоте его реакций, чувствуя, что неожиданная слава делает меня осторожным и даже пугливым.
Подходили знакомые, посмеивались, подошел Коля Васин — восторженный голос его слышался издалека. Он был в кожанке времен Пролеткульта, кепке-восьмиклинке, сшитой из потертой джинсовой ткани, крупный круглый значок на лацкане кожанки «Imagine» походил на мишень, и вся наша пестрая группа походила на мишень. Но выстрела не произошло. Раздалась команда, мы двинулись к дебаркадеру, что стоял у парапета напротив Медного всадника, и, к общему удивлению, погрузились на речной трамвайчик, который тут же и отвалил от дебаркадера.
Появился Арсентьев. В аккуратном плаще строгой расцветки, с аккуратным пробором. Он вежливо приветствовал каждого рукопожатием. Ладонь у него оказалась холодная, а пальцы цепкие и сильные. Руководителям групп предлагалось пройти в овальную каюту, а рядовым деятелям рок-музыки — в общую.
— Касты какие-то, — расстроился Мишка. — Вы, значит, брахманы, а мы — пушечное мясо рок-н-ролла? Н-да. Ништяк!
В овальной каюте собралась элита; Арсентьев повторил более развернуто то, что я уже слышал на Ржевке, и предложил наметить конкретный план и проект Устава создаваемого Клуба. Говорили много глупостей, Арсентьев конкретизировал и поправлял, а его конкретизировала и поправляла такая же белокурая и голубоглазая, как Арсентьев, молодая женщина, так же строго и аккуратно одетая и причесанная. Арсентьев и Белокурая сидели рядом. Дебаты продолжались бесконечно, и я вышел в общую каюту, где оказалось веселее и бесшабашнее. Брякала посуда, курили — табачные облака клубились над головами рок-н-роллыциков, запах горчил.
Музыкальная общественность изъявила желание, и желание исполнилось — речной трамвайчик подошел к ближайшему дебаркадеру и выборные от рок-н-роллыциков рванули в ближайший гастроном. По их возвращению круиз продолжился.
В итоге приняли на речном трамвайчике Устав — довольно жесткий Устав: многое запрещалось — постановили скинуться по двадцать рублей в кассу Клуба и от Арсентьева получили указание ждать дальнейших указаний.
Этот вольный разинский круиз добил сомневающихся, и теперь мы представляли из себя ярых сторонников долгожданного Клуба, что принесет долгожданную легальность, признание и профессиональное звучание.
Мы ждали дальнейших указаний Арсентьева.
А пока что — квинтэссенцией сезона, катаклизмом года, землетрясением нравов… «Мухинскому» училищу исполнялось сколько-то там круглых лет. Нас, как сиюминутных знаменитостей, чуть не слезно просили украсить выступлением «Санкт-Петербурга» юбилей. Мы и украсили, чем смогли.
На вечер прибыло много выпускников прежних лет, и они, придя по пригласительным билетам к началу вечера, увидели огромную толпу, сгрудившуюся у дверей, запрудившую даже пол-улицы, на которую выходил фасад училища. Испуганный милиционер пытался объясниться с толпой через мегафон, но толпа имела навык, толпа стояла стеной, и обладатели пригласительных билетов в большинстве не смогли попасть в училище, а наиболее активных, возмущающихся вслух, пытавшихся пробиться к дверям юбиляров, милиция как раз и забрала. Имевшая же навык толпа напирала, но напирала, не нарушая курс предписаний социалистического общежития на глазах милиции.
Я оказался в толпе, и меня передали через нее к дверям на руках. В самом училище оказалось не лучше. Затейливые коридоры барона Штиглица походили на цыганский табор. Единственно, что не жгли костров. Осторожность и пугливость во мне прогрессировали и приводили к противоположным проявлениям. И хотя я более не практиковал выбегать на сцену босиком, но на колени все же падал и метался зверем, и прыгал через колонки, и кричал в микрофон про «осень» и «сердце камня». А Володя лишь еще более преуспел в синкопах, а Серега еще и дул в губную гармонику, а Мишке хоть и было иногда не до клавишей, но зато еще более он соответствовал прозвищу Летающий Сустав, летая по сцене с бубном и чаруя экзальтированных болельщиц.
Так что два часа самума в актовом зале — и все.
Теперь я даже ставил под удар родителей: они занимали довольно серьезные должности на производстве, а на одном из совещаний по идеологии упомянули «так называемую рок-музыку», упомянули и «Санкт-Петербург», приписав ему чуть ли не монархистские настроения.
Я этого не понимал. Мы ведь просто сочиняли музыку и слова к. ней. И просто выступали не бог весть на каких подмостках. Может, это были хреновая музыка и хреновые слова, но мне казалось, что наоборот, «Петербург», запевший на родном языке, достоин пусть не поддержки, но хотя бы невмешательства. Я очень надеялся на Клуб, на Арсентьева и на его значок с золотой веточкой.
По сложной системе конспиративных звонков узнаю — ночью на улице Восстания, в здании бывшей гимназии произойдет встреча лучших клубных музыкантов с польской рок-группой «Скальды», приехавшей в СССР на гастроли. Иметь при себе три рубля на организационные расходы. Играют с нашей стороны «Фламинго» и «Санкт-Петербург». Под утро — «джем», то есть совместное и импровизационное выступление музыкантов из разных составов. Лишнего не болтать. Аппарат выкатывает «Фламинго».
Не болтая лишнего, собираемся и едем в метро, встречаем по дороге Никиту Лызлова, бывшего участника одной из университетских групп. Никита учился на химическом и там устраивал «Петербургу» концерт.
Не болтая лишнего, зовем Никиту с собой.
— Ночью! Концерт со «Скальдами»? Бред!
У Никиты крупное вытянутое лицо, широкий лоб марксиста, грамотная усмешка и прочный запас юмора.
— Ночью концерт со «Скальдами». Правда.
— Но ведь разыгрываете!
Заключаем пари и едем, на улице Восстания находим гимназию — тяжелое, мертвое, без света в окнах здание. В дверях быстрая тень — открывают. Поднимаемся по гулкой пустой лестнице и оказываемся вдруг в большом ярком зале с узенькими занавешенными окнами. Народу мало — все знакомые. Но незнакомое чувство простора и свободы в ограниченном просторе гимназии, в которую они вошли по-человечески через дверь, а не через пресловутую женскую-туалетную комнату, это незнакомое состояние делает их робкими, тихими, даже серьезными.