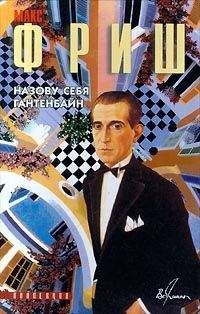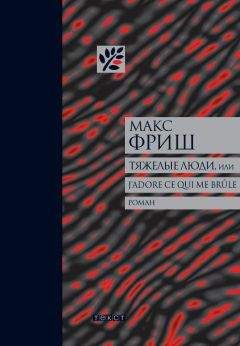Сам он летит туда впервые.
Население — индейцы.
Мне все это было интересно, поскольку я тоже занимаюсь вопросами освоения экономически отсталых районов. Мы сразу же нашли общий язык — сошлись на том, что прежде всего надо строить дороги, может быть, даже небольшой аэродром — ведь в конечном счете все упирается в транспорт. Ближайший порт — Пуэрто-Барриос. Мне показалось, что эта затея рискованная, но не лишенная смысла; быть может, и в самом деле в этих плантациях — будущее немецкой сигары.
Он сложил карту.
Я пожелал ему удачи.
На его карте (1:500000) все равно ничего нельзя было понять: ничейная земля, белое пятно, две голубоватые змейки, реки, между зелеными — государственными границами; единственные надписи, набранные красным шрифтом, но так мелко, что разобрать можно только с лупой, обозначают развалины древних городов майя…
Я пожелал ему удачи.
Его брат, который вот уже много месяцев живет в тех краях, никак не может там акклиматизироваться, и я вполне это себе представляю — низина, тропики, палящий зной, невыносимая влажность в сезон дождей.
На этом наш разговор кончился.
Я закурил, бросил взгляд в иллюминатор: под нами лежал Мексиканский залив — на зеленоватой воде лиловые тени от стаек облаков, обычная игра красок, я уже тысячу раз снимал это своей кинокамерой, — я закрыл глаза, чтобы хоть как-то наверстать те часы сна, которые у меня отняла Айви; полет больше не нарушал моего покоя, сосед тоже.
Он углубился в роман.
Для меня романы ровно ничего не значат, как, впрочем, и сны, а приснилась мне как будто Айви, во всяком случае, я почувствовал себя подавленным; мы находились в игорном баре в Лас-Вегасе (в действительности я там никогда не был), вокруг пьяный разгул, да еще орут громкоговорители, выкликая почему-то мое имя, куда ни глянь — синие, красные и желтые автоматы, в которых выигрывают деньги, лотерея, и я в толпе совершенно голых людей жду своей очереди на развод (в действительности я не женат); каким-то образом туда забредает и профессор О., мой почтенный учитель из Швейцарского политехнического института, человек на редкость сентиментальный, У которого все время глаза на мокром месте, хотя он и математик — точнее, профессор электродинамики; все это мне неприятно, но самое нелепое вот что: оказывается, я женат на Дюссельдорфце… Я хочу протестовать, но не могу разжать губ, не прикрыв рта рукой, потому что у меня — я это чувствую — выпали все зубы и перекатываются во рту, как морские камешки…
Едва проснувшись, я сразу понял, в чем дело.
Под нами — открытое море…
Из строя вышел левый мотор; неподвижный пропеллер, как крест, четко вырисовывался на фоне безоблачного неба — вот и все.
Под нами, как я уже говорил, Мексиканский залив.
Наша стюардесса, девушка лет двадцати, еще совсем ребенок (на вид по крайней мере), дотронулась до моего плеча, чтобы меня разбудить, но я все понял прежде, чем она объяснила, протягивая мне зеленый спасательный жилет; мой сосед как раз застегивал на себе такой жилет, и это напоминало учебную тревогу.
Мы летели на высоте двух тысяч метров, не меньше.
Зубы у меня, конечно, не выпали, даже тот, вставной, что на штифте — верхний, четвертый справа; и я сразу почувствовал облегчение, чуть ли не радость.
Спереди, в проходе, стоял капитан:
— There is по danger at all…[13]
Все это лишь мера предосторожности, наш самолет может лететь и с двумя моторами, мы находимся на расстоянии 8,5 мили от мексиканского берега, держим курс на Тампико. Просьба ко всем пассажирам сохранять спокойствие и пока не курить. Thank you.
Все сидели, как в церкви, на всех были зеленые спасательные жилеты, а я проверял языком, действительно ли у меня не качаются зубы — больше меня ничего не волновало.
Время 10.25.
— Не задержись мы при вылете из-за снежной бури, мы бы уже совершили посадку в Мехико-сити, — сказал я своему дюссельдорфцу, чтобы что-нибудь сказать. Терпеть не могу торжественного молчания.
Ответа не последовало.
Я спросил, который теперь час по его часам.
Ответа не последовало.
Моторы — три остальных — работали исправно, авария никак не ощущалась. Я отметил, что мы идем на прежней высоте, потом показался берег, окутанный дымкой, что-то вроде лагуны, а за ней — болота. Но Тампико еще не было видно. В Тампико я уже бывал, и он у меня накрепко связан с отравлением рыбой, которого я не забуду до конца своих дней.
— Тампико, — сказал я, — это самый гнусный город на свете, нефтяной порт; там вечно воняет либо нефтью, либо рыбой, вы сами убедитесь…
Он все ощупывал свой спасательный жилет.
— В самом деле, я вам советую, — сказал я, — не ешьте там рыбы, ни при каких обстоятельствах не ешьте.
Он попытался улыбнуться.
— У местных жителей выработался, конечно, иммунитет, — сказал я, — а вот наш брат…
Он кивнул, не слушая меня. Я прочел ему настоящий доклад о бактериях, а попутно и о гостиницах Тампико; как только я заметил, что мой дюссельдорфец перестает меня слушать, я хватал его за рукав, хотя обычно я себе этого не позволяю, более того, я сам ненавижу, когда кого-либо хватают за рукав. Но иначе он меня просто не слушал. Я рассказал ему во всех подробностях скучную историю моего отравления рыбой в Тампико в 1951 году, то есть шесть лет назад. Тем временем мы летели, как вдруг выяснилось, вовсе не вдоль берега, а почему-то в глубь страны. Значит, все-таки не в Тампико! Я разом потерял охоту болтать и тут же решил спросить у стюардессы, в чем дело.
Снова разрешили курить!
Быть может, аэродром в Тампико слишком мал, чтобы принять наш «суперконстэллейшн» (в тот раз я летел на «ДК-4»), либо они получили указание держать курс, несмотря на поломку одного из моторов, прямо на Мехико-сити; меня это крайне удивило, нам ведь предстояло перелететь через восточные отроги Сьерры-Мадре. Но нашей стюардессе — я и ее схватил за локоть, чего обычно, я уже это говорил, я себе не позволяю, — некогда было мне отвечать: ее вызвали к капитану.
Мы и в самом деле набирали высоту.
Я пытался думать об Айви…
Мы все подымались.
Под нами, как и прежде, тянулись болота — блеклая гладь мутной, зацветшей воды, кое-где разорванная узкими языками земли и песка, гнилая топь, то покрытая зеленой ряской, то красноватая, то почему-то совсем алая, словно губная помада, собственно говоря, вовсе не болота, а лагуны; и там, где на поверхности воды играло солнце, они посверкивали, как серебряные конфетные бумажки или кусочки станиоля — одним словом, отсвечивали каким-то свинцовым блеском, а те, что лежали в тени, были водянисто-голубые (как глаза Айри), с желтыми отмелями и чернильными, фиолетовыми отливами, видимо из-за водорослей; промелькнуло устье реки тошнотворного цвета американского кофе с молоком, и снова на протяжении сотни квадратных миль — ничего, кроме лагун. Дюссельдорфцу тоже казалось, что мы набираем высоту.
Пассажиры снова стали разговаривать.
Приличной карты, такой, как в самолетах швейцарской авиакомпании, здесь не было, и меня раздражало лишь то обстоятельство, что нам сделали это идиотское сообщение, будто мы держим курс на Тампико, хотя самолет явно летел в глубь страны, все набирая высоту, как я уже говорил; работали три мотора, я глядел на три вращающихся диска, которые время от времени вдруг словно застывали — оптический обман в чистом виде — и тут же снова приходили в движение, мелькали черные тени, как обычно. Причин для тревоги не было; странным казался только вид неподвижного креста — бездействующего пропеллера на летящем самолете.
Мне было жаль нашу стюардессу.
Ей полагалось ходить от кресла к креслу с белозубой рекламной улыбкой и осведомляться у каждого пассажира, удобно ли ему сидеть в спасательном жилете; стоило кому-нибудь ответить ей шуткой, как улыбка тотчас сползала с ее лица.
— Разве можно плавать в горах? — спросил я.
Приказ есть приказ.
Я взял ее за руку, эту девчонку, которая по возрасту могла быть моей дочкой, вернее, за запястье, и сказал ей (конечно, в шутку!), грозя пальцем, что она принудила меня продолжать этот полет, да, да, только она, и никто другой; стюардесса ответила:
— There is no danger, Sir, no danger at all. We’re going to land in Mexico-City in about one hour and twenty minutes[14].
Эту фразу она повторяла всем по очереди.
Я отпустил ее руку, чтобы девушка снова начала улыбаться и выполнять то, что ей полагалось, — следить, все ли пристегнулись ремнями. Вскоре стюардесса получила приказ разносить завтрак, хотя время завтрака еще не настало. К счастью, и тут, над материком, стояла хорошая погода, небо было почти безоблачным, но все же нас болтало, как обычно над горами, — оно и понятно, законы теплообмена. Нашу машину швыряло из стороны в сторону, она качалась, как на волнах, пока вновь не обретала равновесие и не набирала высоту, чтобы вскоре опять провалиться в воздушную яму. Несколько минут нормального полета — и снова толчок, крылья дрожат, и опять нас болтает, пока машина еще раз не выровняет курс и не наберет высоту; кажется, теперь уже все в полном порядке — и в ту же секунду мы снова проваливаемся в яму, — так, впрочем, бывает всегда, когда болтает.