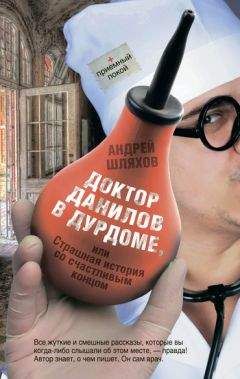Немного поспорили о московской жизни. Гость утверждал, что при всех своих недостатках она все равно лучше жизни в провинции, хозяин же упорно в этом сомневался. Наконец порешили на том, что жизнь везде одинакова и качество ее зависит не от места, а от людей, которые тебя окружают.
– Поликлиника – это просто филиал гестапо, – пожаловался Виктор, к этому времени уже превратившийся в Витю. – Работаешь, как Штирлиц. Шаг влево, шаг вправо – все сразу же становится известно начальству…
– А начальство-то как, ничего?
– Ничего хорошего. Главврач, может, и не очень вредный мужик, но он в дела не вникает. Всем заправляют два зама – по лечебной части и по экспертизе. Одна другой лучше… И проверки каждую неделю.
– А ты говоришь…
– Но зато – зарплата в четыре раза больше и приработок в основном денежный, а не пирожками и домашним самогоном – Витя взглянул на наручные часы и поднялся. – Спасибо тебе, Вова, за гостеприимство, но мне пора. Вот, держи визитку…
Из бокового кармана сумки он достал «визитку» – прямоугольничек обычной бумаги с номером телефона, напечатанным явно на принтере.
– По поводу больничного всегда делай официальный вызов через регистратуру, – предупредил он. – Иначе будут проблемы.
– А сколько я могу… болеть? – уточнил Данилов.
– Месяц – спокойно, – заверил Витя. – Если печень, конечно, выдержит…
Ушел хороший человек – и депрессия сразу же подняла голову. Данилов пошел в комнату, лег на диван и попытался заснуть. Поначалу сна не было, а когда он собрался было прийти, на кухне зазвонил оставленный там мобильный. Конечно, можно было бы и не вставать, но процентов на девяносто девять звонила Елена. Не возьмешь трубку – испугается и примчится с проверкой. Лучше уж ответить. Данилов вздохнул, выругался про себя и потопал на кухню.
– Как ты? – В голосе Елены чувствовалась некоторая напряженность.
– Все нормально, – пробубнил Данилов. – Взял больничный, чтобы слегка прийти в себя. Готовлюсь ко сну.
– Может, мне приехать? – предложила Елена. – К тебе или за тобой?
– Не надо, Лен, – попросил Данилов. – Мне надо побыть одному. Так я, по крайней мере, никого ничем не обижу.
– Да при чем тут это…
– При том. – Данилов слегка повысил голос и почувствовал, как сразу же заломило затылок. – Я не в настроении кого-либо видеть. Даже тебя. Пойми меня правильно и не настаивай.
– Позвоню утром, – сказала Елена и отключилась.
– Утро вечера мудренее, – подтвердил Данилов, выключая телефон.
День прошел, осталось четыре. Если не хватит – можно будет без проблем продлить больничный, но вообще-то хватит. Должно хватить, поскольку иначе не хватит денег на беззаботную депрессивную жизнь. Беззаботную… Врагам бы нашим такую беззаботную жизнь, вот бы уж они взвыли…
Следующий день прошел в каком-то полусне. Проснулся, походил по пустой квартире, вспоминая, как совсем недавно здесь жила мама, постоял на балконе, выпил кофе, потом водки, пожевал полузасохший кусок сыра, который вчера забыл убрать в холодильник, хотел было умыться, но передумал. Включил мобильный и позвонил Елене. Сказал в трубку что-то успокаивающее, снова выключил телефон и решил немного поспать… После нескольких чередований сна и бодрствования окончательно запутался во времени, несмотря на исправно работающие часы. Мать любила, чтобы часов в квартире было много, чтобы поднял голову и сразу же увидел, который час.
Неожиданно пришло желание посмотреть старые фотографии, которые все собирался переснять и записать на диск, но так и не собрался. Три тяжелых фотоальбома – семейная хроника – лежали там, где всегда – на нижней полке книжного шкафа, который при въезде в квартиру мать «на время» оставила в коридоре. Не смогла сразу подыскать ему место, а потом привыкла. Прекрасная иллюстрация быстротечности нашего бытия – шкаф, поставленный «на время», стоит на своем месте, а человека нет…
Данилов уселся на свой диван и раскрыл первый из альбомов. Девочка в светлом, не доходящем до колен платьице, на фоне здания с колоннами. На обороте надпись аккуратным почерком – «У дома культуры» и дата. Интересно, кто подписывал фотографию – мать или бабушка? Наверное, все же бабушка, почерк совсем не детский. Теперь уже и не спросишь…
На середине альбома к горлу неожиданно подкатил ком, который немедленно следовало запить. С альбомом в руках Данилов пошел к холодильнику. Открыл дверцу, с удовлетворением отметил, что водки еще много, а растянуть остатки еды на пару дней не составит труда, достал едва начатую бутылку и отхлебнул прямо из горла. Проклятый ком исчез лишь после третьего глотка.
На всякий случай Данилов прихватил бутылку с собой – вдруг еще понадобится. Вернулся на диван, добросовестно долистал альбом до конца и взялся за следующий.
Долго разглядывал себя семимесячного, пытаясь извлечь из памяти хоть какие-нибудь воспоминания того периода. Конечно же ничего не извлек. Вздохнул, перевернул лист и увидел себя на пляже. Анапа… Первую свою поездку в плацкартном вагоне он смутно помнил… Групповой снимок в детском саду… Первоклассник Вовочка… С матерью на ВВЦ, тогда еще ВДНХ, ежегодные снимки с классом… Имена некоторых одноклассников вспоминались с трудом.
Вот памятный снимок после окончания школы. Владимир Данилов крайний слева во втором ряду. Ясный взгляд, довольная рожа… Еще бы ей не быть довольной – школу закончил! Прощай, детство, здравствуй, здравствуй, новая взрослая жизнь! А что в ней хорошего? Да ничего, кроме водки в холодильнике, да и та когда-нибудь закончится… Кто написал: «Никогда не перечитывайте старых писем»? Мопассан? Классик ошибся – смотреть старые фотографии не менее опасно. Впрочем, в его время фотография как таковая еще только начинала шагать по миру.
На душе было паршиво, а стало совсем невмоготу. Данилов отпил из бутылки раз, отпил другой, но испытанное средство неожиданно дало сбой – он словно проваливался в бездонную черную яму и уже успел провалиться так глубоко, что не видел никакого просвета над головой.
Не видел он его и впереди. Надо признать, что при ближайшем знакомстве взрослая жизнь оказалась совсем не такой, какой рисовалась по окончании школы. С годами появилась безысходность, исчезло ощущение собственного всемогущества, куда-то подевалось умение радоваться каждому пустяку. Вместо этого пришла головная боль, осознание собственной никчемности, да и много чего еще пришло, только лучше бы не приходило… Даже любовь оказалась всего лишь инстинктом, не более того.
Еще никогда в жизни не ощущал он так остро своего одиночества, своей никчемности, своей ненужности и абсолютной бесперспективности своего существования.
– Дальше будет только хуже, – произнес он вслух, и слова эти были восприняты как команда.
Определился быстро. Прыжок с балкона счел чересчур демонстративным, можно даже сказать – истеричным. Не мужской выход. Однозначно – не мужской.
Взрезать вены на руках (взрезать правильно – вдоль, а не поперек, как режут шантажисты), сидя в ванне с горячей водой? Нет, это чересчур по-декадентски… Он, в конце концов, не поэт Серебряного века. Способ никуда не годится.
Наиболее оптимально конечно же застрелиться. Р-раз – и готов! Можно везти в судебно-медицинский морг. Мысль о морге не пугала, даже наоборот – веселила. Было в ней нечто ухарское, мол, взял, да и явился к вам в новом качестве. Извольте установить причину моей смерти, уточнить, что я ел на завтрак, и рассчитать приблизительное количество выпитой водки по содержанию алкоголя в крови. «Вуаля», – как говорят французы. Или «сильвупле»? Нет, все же «вуаля»… Жаль только, что застрелиться не из чего. Но ничего не поделаешь, не позаботился заблаговременно, так получай! Вернее, не получай, а выкручивайся как знаешь.
Таблетки… Настоящий врачебный способ… Подготовился: рассчитал дозу, так, чтоб уж наверняка, запасся нужным количеством, и… Вот в том-то и дело, что вначале надо запастись, что по нашим временам довольно сложно. Все препараты, пригодные для ухода из жизни, подлежат строгому учету. Просто так их не купишь, добрый доктор Витя, каким бы добрым он ни был, тебе на них рецепт не выпишет, посадят ведь за такое участие, и в анестезиологии по знакомству ничем не разживешься – сам еще не забыл, как тяжело и дотошно все списывается. Потом, таблетки – дело такое… не совсем надежное. Часть растворится, а часть заляжет комом в желудке, дожидаясь спасительной промывки. Ладно, все равно, кроме веревки, под рукой ничего нет.
Катушка толстой, в палец, капроновой веревки, предназначенной для хозяйственных нужд, хранилась на антресолях, сколько Данилов себя помнил. Подарок кого-то из соседей, явно разжившегося этим добром на работе – в магазинах подобных катушек Данилов никогда не встречал. Впрочем, он и не присматривался.
Отрезав кусок длиной с два метра, Данилов первым делом опробовал его на прочность и остался доволен результатом испытания. Капрон – он и в Африке капрон, и через десять лет все равно капрон. Все сдохнут, а капрон останется как память.