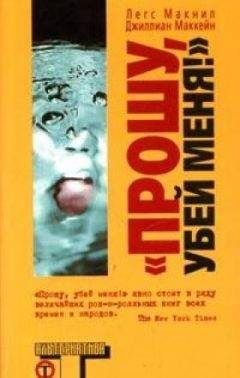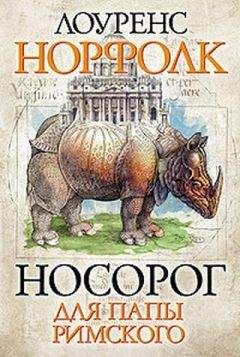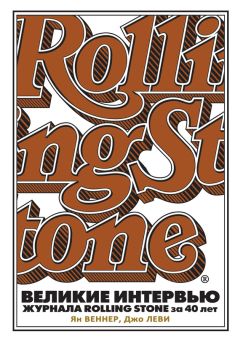Потом мне надо было придумать название для шоу — свет и танцоры, которые выступали вместе с The Velvet Underground и Нико. Я смотрел на идиотский альбом Дилана, который, надо признать, меня интриговал. Не знаю названия, помнится, там сзади была фотография Барбары Рубин. Так вот, я посмотрел на несуразицу, напечатанную на конверте, и сказал: «Используй слово «Взрывная», что-нибудь «пластиковое» и, что бы это ни значило, «неизбежность»».
Энди Уорхол: Мы все знали, что происходит революция. Кожей чувствовали. Если все кажется таким странным и свежим, значит, какой-то барьер преодолен. «Прямо как Крааасное моооре, — сказала Нико однажды вечером, стоя на балконе собора с видом на это действо, — туууса».
Пол Морисси: Мы выступали в цирке на площади святого Марка около месяца. Я тогда поехал в Лос-Анджелес договариваться насчет работы в ночном клубе на Сансет-бульваре. Он назывался «Приход», представляешь? Жалкая хиповская херотень. Так что мы съехали из собора, потому что там не было кондиционера, а уже начиналось лето, и все хотели в Лос-Анджелес. Прикольная была мысль.
Потом из Сан-Франциско приехал Билл Грэм, умолял меня подписать The Velvet Underground выступить в его сортире, в Филморском помойном блеватории. Настоящее ничтожество. О нем говорят как о каком-то святом. Тьфу. На мой взгляд, он был просто омерзителен. Настоящий урод. Он приехал в Лос-Анджелес чуть ли не в слезах. Его главным аргументом было то, что речь шла о длинном праздничном уикенде, и знаешь, «Я бился, чтобы не закрыли мое заведение, я скоро вылечу в трубу, полиция вот-вот меня прикроет, они шмонают меня за то и мурыжат за это, но знаешь, ТВОЕ шоу такое популярное, если вы приедете в Сан-Франциско, вы спасете мой клуб…»
Мэри Воронов: Мы вообще не хотели ехать в Сан-Франциско. Калифорния — какое-то странное место. Мы совсем разные. Они нас ненавидели.
Например, мы одевались в черную кожу, а они в яркие цвета. Они были «О, смотри, хэппенинг!». А мы были как книги Джина Дженета.[7] Мы были садо-мазо, а они за свободную любовь. Мы любили геев, а на Западе жили воинствующие гомофобы. Так что они считали нас воплощенным злом, а мы их тормозами.
Плюс мы сильно напряглись, потому что мы… ладно, я была на спиде. А когда мы пришли в «Филмор», The Mothers of Invention не только играли музыку. Перед ними танцевали люди, совсем как мы с Джерардом у «Вельветов». Нас это здорово задело, а Лу просто охуел от ярости. После выступления группа оставила инструменты около мониторов (и они, естественно, зашкалили), и просто ушла со сцены.
Сан-Франциско, конечно, даже не знал, что концерт окончен.
Морин Такер: Не люблю пиздеж про «мир-любовь».
Джерард Маланга: Посмотреть на нас в «Приходе» приехал Джим Моррисон. В то время он учился в лос-анджелесском киноинституте. Считается, что именно тогда он перенял мой внешний вид (черные кожаные штаны), увидев, как я танцую.
Пол Морисси: В Лос-Анджелесе мы залезли в студию и записали первый альбом. На него ушло две ночи и около трех сотен долларов, тогда немалые деньги. Энди сроду не тратил такую кучу денег ни на что. Фильмы Уорхола стоили пару сотен баксов на круг за штуку. Так что для меня выбить такую сумму из Энди…
Энди Уорхол: Все время, пока писали альбом, никто не был в восторге, особенно Нико. Она вопила: «Хочу звучать так: Бауууу-диии-лаааа», и напрягалась, потому что звучала совсем по-другому.
Лу Рид: Энди считал своим долгом убедиться, что на первом нашем альбоме язык останется нетронутым. Думаю, Энди хотел всех шокировать, дать людям хорошую встряску и чтобы не говорили, что мы идем на компромиссы. Он говорил: «О, вы должны, просто обязаны оставить там все нецензурные слова». В этом вопросе он был непоколебим. Ему не хотелось, чтобы текст выхолостили, и поскольку он был там, этого не сделали. И как результат, мы всегда знали, что идем своим путем.
Игги Поп: Впервые я услышал запись The Velvet Underground и Нико на вечеринке в общаге Мичиганского универа. Саунд мне дико не понравился. Ну, в духе: «Как можно было сделать настолько говенную запись? Отвратительно! От всей этой компании так и хочется блевать! Хуевы отвратные хипатые подонки! Ебаные битники, поубиваю всех на хуй! Звук, как из помойки!»
А примерно через полгода меня торкнуло. «О боже! Ну и ну! Это охуительно потрясная запись!» Эта запись стала для меня открытием, и не только в том, что они пели, и не ее величием. Я увидел других людей, которые делали обалденную музыку — в музыкальном плане ничего особенного собой не представляя. Во мне проснулась надежда. Точно так же в свое время я слушал Мика Джаггера. Он мог петь на одной ноте, без модуляции, просто наговаривал: «Эй, давай, детка, детка, я могу уауууу…» Все песни такие монотонные, сплошной речитатив. То же самое было с «Вельветами». Они звучали так просто — и одновременно здорово.
Пол Морисси: Verve/MGM не знали, что делать с альбомом «The Velvet Underground and Nico», потому что он вышел весьма специфическим. Они не выпускали его около года. Думаю, за это время в голове Лу созрела мысль, что альбом по-любому выйдет и, может, даже принесет определенные деньги. «А что, давайте порвем контракт с менеджерами, с Энди и Полом». Том Уилсон из Verve/MGM купил у меня альбом только из-за Нико. Он не видел в Лу таланта.
Стерлинг Моррисон: С Нико были проблемы с самого начала. Ей идеально подходила туча песен, и она хотела петь их все — «Heroin», «I’m Waiting for the Man», впрочем, и все остальные. К тому же она пыталась добиться своего с помощью сексуальных фишек. Если кто-то мог повлиять на происходящее в группе, Нико, как пить дать, оказывалась рядом с ним. Так она ушла от Лу к Кейлу, но ни одна из этих связей долго не протянула.
Рони Катрон: Нико была слишком эксцентричной, чтобы заводить с ней серьезные отношения. Дружить с ней или любить ее, да даже просто гулять или развлекаться… Нет, только не с ней. Она была слишком странная. С одной стороны очень холодная и замкнутая, с другой — раздражающе неуверенная.
Полный атас был, как она часами вертелась у зеркала перед выходом. «Рони, как смотрится?» — она делала проход из танца, а я комментировал: «Еб твою мать, Нико, давай уже выходи и танцуй». И притом она оставалась Снежной королевой, она была потрясающая, знаешь, убийственная блондинка.
Но она была очень странной. Извращенка. Нико была чертова извращенка, скажу я тебе. Очаровательная, но извращенка. Долго продержаться рядом с Нико невозможно.
Лу не хотел, чтобы Нико была с ними. Он считал, что The Velvet Underground — это он, и хотел играть рок-н-ролл. Лу надоело заниматься артом. Он стремился к чистому рок-н-роллу. Знаешь, иногда надо сказать себе «хватит».
«Вельветов» не выпускали в радиоэфир. Не было серьезных контрактов со студиями звукозаписи. Но вины Энди в этом не было. Сам подумай, о чем они пели: о героине, об обнаженных мертвых матросах на полу. Знаешь, в эфир с «Венерой в мехах» не выпускают.
Нико: Каждый из «Вельветов» был законченный эгоист. Все они хотели быть звездами. Лу тоже ревновал меня к славе — конечно, он и так был звездой, но репортеры приходили всегда ко мне. Я всегда хотела спеть «I’m Waiting for the Man», но Лу не давал. Он был босс, и он был очень властный. Вы его встречали? И что о нем думаете — саркастичный? Это потому что он сидел на «колесах» — сочетание всех «колес», которые он глотал… Он очень быстрый, невероятно быстрый. А я тормознутая.
Рони Катрон: Не забывайте, мы сидели на метедрине девять дней в неделю. Черт его знает, где грань между действительностью и воображением. Когда не спишь по девять дней подряд, может случиться что угодно, паранойя так сгущается, что можно резать ее на куски. И все обиды сидят внутри месяцами, иногда годами.
Никогда не забуду, как однажды нам достался плохой спид, но мы вышли на сцену. Потом выяснилось, каждый думал, что остальные изо всех сил пытаются его достать. В танце на «Венеру в мехах» я вертел кнутом по полу, а Мэри танцевала рядом. А в этот раз, когда я положил кнут на пол, Мэри наступила на него, и я не мог его вытянуть обратно. С Джерардом приключилась та же история, и каждый думал, что другие пытаются его достать.
В такой ситуации не было ничего необычного. Сплошь и рядом было: «Я знаю, за моей спиной говорят так-то и так-то», или «Он пытается сделать это», «Он хочет урвать кусок».
Все бились за внимание Энди. Постоянно было это подсознательное, а иногда и не подсознательное, соперничество, и глубокая, махровая паранойя. Знаешь, когда не спишь девять дней, боковое зрение мутнеет, предметы расплывваются, ты уже ничего не соображаешь, и случайная фраза вдруг приобретает глубокий, очень глубокий, просто космический смысл. Это просто уебывает тебя напрочь.