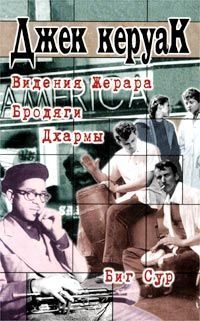Ознакомительная версия.
– Да, круто, – согласился я. – И мне еще нравится, когда он тихий такой, печальный, немногословный…
– Ох, интересно, чем он кончит.
– Я думаю – как Хань Шань, один в горах, будет писать стихи на скалах – или читать их людям, столпившимся у его пещеры.
– Или станет кинозвездой в Голливуде, а что ты думаешь, он тут сказал мне: «Знаешь, Альва, я никогда не думал стать кинозвездой, а ведь я все могу, только еще не пробовал,» – и я верю, он действительно может все что угодно. Видал, как они с Принцессой, как она вся обвилась вокруг него?
– О да. – А позже, когда Альва лег спать, я уселся под деревом во дворе и глядел на звезды, временами закрывая глаза для медитации, пытаясь успокоиться и вновь обрести душевное равновесие. Альва тоже не мог заснуть; он вышел, лег на спину в траву, глядя в небо, и сказал: «Какие там облака клубятся во тьме, чувствуешь, что живешь на планете».
– Закрой глаза и увидишь больше.
– Ой, не знаю, что ты этим хочешь сказать! – раздраженно воскликнул он. Его всегда напрягали мои маленькие лекции об экстазе самадхи, – состояние, когда ничего не делаешь, полностью останавливаешь мозги, глаза закрываешь и видишь некий огромный вечный сгусток электрической Силы, гудящий на месте привычных жалких образов и форм предметов, которые, в конечном счете, иллюзорны. Кто мне не верит – приходи через миллиард лет, поспорим. Ибо что есть время? – А тебе не кажется, что гораздо интереснее жить, как Джефи, заниматься девочками, наукой, веселиться, вообще что-то делать, чем так просиживать задницу под деревьями?
– Не-а, – сказал я уверенно, зная, что Джефи был бы на моей стороне. – Он просто развлекается в пустоте.
– Не думаю.
– А я думаю, да. Вот я на следующей неделе схожу с ним в горы и тогда точно тебе скажу.
– Ну-ну (вздох), что касается меня, то я останусь Альвой Голдбуком, и к черту всю эту буддистскую фигню.
– Когда-нибудь пожалеешь. Как же ты не хочешь понять, что я тебе пытаюсь втолковать: твои шесть чувств дурят тебя, обманывают, уверяя, что, кроме шести чувств, есть еще реальный контакт с реальным миром. Не будь у тебя глаз, ты бы меня не видел. Не будь ушей, не слышал бы гул самолета. Не будь носа, не учуял бы запах полночной мяты. Не будь вкусовых рецепторов языка, не отличил бы по вкусу А от Б. Не будь тела, не ощутил бы тело Принцессы. На самом деле нет ни меня, ни самолета, ни мозга, ни Принцессы, ни-че-го, что ж ты, дурак, хочешь, чтобы тебя продолжали дурить и дурили каждую минуту твоей дурацкой жизни?
– Именно этого я и хочу, и благодарю Бога, что из ничего вышло нечто.
– Ты уж извини, но все как раз наоборот: из чего-то вышло ничто, и это что-то – Дхармакайя, тело Истинного смысла, а ничто – все вот это и вся наша болтовня. Я пошел спать.
– Иногда в твоих словах я вижу некие проблески света, но поверь, что от Принцессы я получаю больше сатори, чем от слов.
– Это сатори твоей дурацкой плоти, развратник.
– Знаю я, грядет мой спаситель.
– Какой спаситель, что грядет?
– Все, хорош, давай просто жить!
– Черт подери, Альва, раньше я думал так же, как ты, я так же жалко цеплялся за мир. Ты все рвешься туда, где бы тебя любили, били, трахали, чтобы стать старым, больным и побитым сансарой, ты, е…ное мясо вечного возвращения, и так тебе и надо.
– Нехорошо так говорить. Все плачут, страдают, стараются жить, как могут. Одичал ты, Рэй, со своим буддизмом, для нормальной здоровой оргии и то боишься раздеться.
– Но в конце концов разделся же!
– Да, но сколько раскачивался, – ладно, не будем.
Альва ушел спать, а я закрыл глаза и стал думать: «Мысль остановилась» – но поскольку я думал это, мысль не останавливалась, зато накатила волна радости, я понял, что вся эта пертурбация – всего лишь сон, который уже кончился, и не стоит беспокоиться, потому что я был не «я», и я стал молиться, чтобы Бог, или Татхагата, дал мне достаточно времени, сил и разума донести до людей мое знание (чего я не могу как следует сделать даже сейчас), чтобы они знали то же, что и я, и не отчаивались так. Старое дерево молча размышляло надо мной – живое существо. Я слышал, как в траве похрапывает мышь. Крыши Беркли казались жалкой живой плотью, под которой горестные призраки прячутся от небесной вечности, боясь взглянуть ей в лицо. Когда я отправился спать, меня уже не волновала ни Принцесса, ни желание, ни чье-то осуждение, я был спокоен и спал хорошо.
И вот настала пора великого похода. Вечером Джефи заехал за мной на велосипеде, мы вытащили альвин рюкзак и положили в корзину велосипеда. Я собрал носки и свитера. Только обуви подходящей не было, разве что теннисные тапочки Джефи, старые, но крепкие. Мои-то уже совсем развалились.
– Может, оно и лучше, Рэй, в теннисках проще, они легкие, можно прыгать с камня на камень. Время от времени будем меняться обувью, короче, не пропадем.
– А еда? Что ты берешь?
– Подожди с едой, Рэ-э-эй, – (иногда он называл меня по имени, и тогда это было протяжное, печальное «Рэ-э-э-эй», как будто он сокрушался о моем благосостоянии), – вначале вот, я принес тебе спальник, не на утином пуху, как мой, и, конечно, потяжелее, но в одежде и у большого костра будет нормально.
– В одежде ладно, а почему у большого костра, ведь только октябрь?
– Да, но там наверху в октябре уже заморозки, Рэ-э-эй, – протянул он печально.
– По ночам?
– Да, по ночам, а днем тепло, хорошо. Знаешь, старина Джон Мьюир ходил по тем горам, куда мы собираемся, в одной только старой шинели и с мешком сухарей, он спал, завернувшись в шинель, а когда был голоден, размачивал сухари в воде и ел, и бродил так месяцами, не возвращаясь в город.
– Суровый был мужик!
– Что касается еды, то я сходил на Маркет-стрит в магазин «Хрустальный дворец» и купил мою любимую штуку – булгур, это такая болгарская дробленая твердая пшеница, добавим туда ветчины, маленькими кубиками, получится отличный ужин для всех троих, вместе с Морли. Еще беру чай, там под холодными звездами знаешь, как хочется хорошего горячего чайку. И настоящий шоколадный пудинг, не полуфабрикат какой-нибудь, а настоящий отличный пудинг, вскипячу и размешаю над огнем, а потом охлажу в снегу.
– Ишь ты!
– Вот, значит, обычно я беру рис, но на этот раз решил приготовить для тебя деликатес, Рэ-э-эй, накидаем в булгур всяких сушеных овощей, я их купил в Лыжном магазине. Это будет ужин и завтрак, а для энергии большой пакет изюма с арахисом, и другой, с курагой и черносливом, так что должно хватить. – И он показал мне малюсенький мешочек, в котором содержалась вся эта важная пища для троих взрослых мужиков на сутки, а то и больше, высокогорного похода. – Самое главное в горах – как можно меньше тащить на себе, мы и так уже тяжеловато идем.
– Да ты что, разве этого хватит?
– Конечно, оно же впитает воду.
– А вина возьмем?
– Нет, там наверху это совершенно не нужно, в горах вообще не хочется алкоголя. – Я не поверил, но промолчал. Мы погрузили мои вещи на велосипед и отправились к нему пешком через весь кампус, ведя велосипед под уздцы. Вечер стоял прохладный, ясный: на фоне задника с эвкалиптами, кипарисами и прочими деревьями четкой черной тенью вырисовывалась башенка Калифорнийского университета, где-то звенели колокола, воздух похрустывал свежестью. – Там наверху, должно быть, холодно, – сказал Джефи, но он был весел и рассмеялся, когда я спросил, как насчет следующего четверга с Принцессой. – Представляешь, с тех пор мы уже дважды играли в «ябьюм», она заявляется ко мне в любую минуту дня и ночи и не слушает никаких отговорок. Так что приходится удовлетворять бодхисаттву. – Джефи хотелось поговорить, он рассказывал про свое орегонское детство. – Знаешь, мы с родителями и сестрой жили там, в нашей бревенчатой хижине, как первобытные люди, зимой с утра все раздевались и одевались у огня, иначе никак, поэтому у меня с этим проще, чем у тебя, в смысле, я не стесняюсь.
– А что ты делал, когда учился в колледже?
– Летом всегда нанимался пожарным наблюдателем – кстати, надо бы и тебе будущим летом там поработать, Смит… Зимой много катался на горных лыжах, часто на костылях прыгал по кампусу, гордился ужасно. По горам лазил, некоторые действительно высокие – скажем, Рэйнир, долгий подъем, кто доберется до вершины, расписывается на камнях. Однажды я все-таки забрался на него. Знаешь, там всего несколько имен. Все Каскады излазил, в сезон, в несезон, лесорубом работал. Вот ты все рассказываешь про железную дорогу, а я тебе должен рассказать про эту особую романтику – быть лесорубом на Северо-западе, представь себе, узкоколейка, морозное утро, снег, а ты выходишь с полным брюхом блинов с сиропом и черного кофе и заносишь топор над первым утренним стволом, совершенно особое ощущение.
Ознакомительная версия.