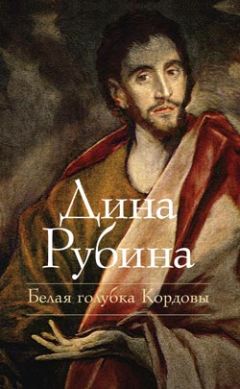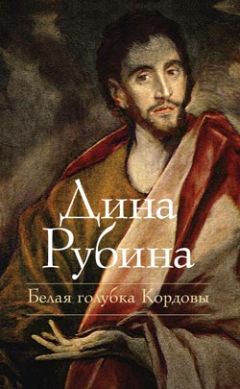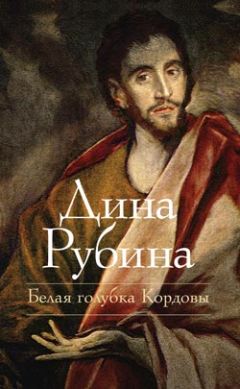Он склонился над бланком и подробно, мелко и тщательно – не расписался, а, как всегда, каллиграфически ровными буквами полностью вывел имя.
И выпрямился:
– Ну, не молодчага ли моя левая? Я ее скоро правой назначу.
– Постойте! – решительно ввинчивая ладони одну в другую, сказал Владимир Игоревич. – Знаю, что торопитесь, но без обмывки – не от-пу-щу!
– А я и не откажусь, если мигом. Я, грешным делом, люблю «Курвуазье»…
Владимир Игоревич сноровисто и деловито разлил коньяк по бокалам. Передал Кордовину.
– Ваше здоровье! – улыбнулся тот глазами, приподняв рюмку и слегка баюкая тяжелый янтарный сгусток на дне.
– Нет уж! – возмутился Владимир Игоревич. Он раскраснелся, вспотел, был возбужден, как после удачно заключенного контракта. Симпатичный мужик, искренне влюбленный в искусство, то бишь в наше грязное болото. И такая восторженная доверчивость в лице. Бородавки пылают от волнения. Может, он и вправду заработал свои миллионы собственными изобретениями? Может, никого не убивал, не грабил, не жег животы конкурентов утюгом?
– Нет, не мое, а ваше здоровье, Захар Миронович! Какой вы мне класс сейчас показали, а? Это ж отдельных денег стоит! Щедрость какая, высокий класс! А ведь при такой спешке могли бы в три минуты начирикать заключение, да и лететь себе дальше. А вы, вот, не пожалели времени, прониклись моей страстью… Я ведь, каюсь, все за Сарабьяновым охотился – такое имя в искусстве, оно и понятно. Да только картину вывозить, потом сюда ее обратно ввозить… морока такая, что все не в радость. И тут мне Морис, фамилии никак не запомню… ну, из галереи «Персей», тот, кто на картину, собственно, и набрел, говорит – на черта тебе Сарабьянов, когда тут у нас Кордовин живет, эксперт международного класса. Ну, я и бросился вам звонить. А сейчас, после нашей встречи… я просто очарован: блистательный профессионализм, эрудиция фантастическая, а главное…
– Ну, я рад, я рад… – торопливо проговорил эксперт международного класса, допивая коньяк. – Теперь уж отпустите меня, голубчик, Владимир Игоревич, а то самолет улетит. У меня рейс через три часа!
Толстяк охнул, приобнял его за плечи и повел к дверям. В коридоре тот остановился, и прежде чем подхватить чемодан, проговорил, подавая руку:
– А я все по Маяковскому: левой, левой, левой!
– «Золотой ус», помните: «Золотой ус» на ночь, и обернуть теплым!
Горячо поручкались лево-правой. Видно было, что толстяк готов был его обнять от всей души. Нет, вот эти родственные восторги, пожалуй, излишни. Теперь последнее. Сыграем-ка Рассеянного с улицы Басейной…
Он с озабоченным видом устремился к двери.
– Захар Миронович!!! – завопил толстяк, схватившись за виски. – Божежты мой!!! А гонорар-то, гонорар?!
Оба хлопнули себя по лбу и расхохотались. Толстяк рысью кинулся к пиджаку, обвисшему на стуле, запутался в карманах лево-правых… наконец, вытянул конверт и вручил Кордовину. Тот, не заглядывая внутрь и не считая, опустил его в карман.
– Ну-у, молодцы-и… – приговаривал Владимир Игоревич, ахая и крутя головой, – оба молодцы!
И когда эксперт уже взялся за ручку двери, Владимир Игоревич тронул его за плечо и проникновенно выдохнул:
– Ну, гляньте же, гляньте в последний раз – ведь хорош, а? Хорош?!
Кордовин обернулся.
Пейзаж Фалька стоял на диване, и в дымно утреннем мареве из распахнутой на балкон двери мерцал всеми своими драгоценными зелеными, серовато-желтыми, серебристыми… Венера, рожденная из пены морской! Моря, впрочем, Мертвого… Так что ж: мертворожденная Венера?
– Не хорош, – с нажимом проговорил он, – а вели-колепен!
Уложив чемодан в багажник, он снял пиджак и потянул галстук с потной шеи. Ну и климат! Начало апреля, в Европе всюду проливные дожди, а тут круглый год – парная.
Стащил с руки и брезгливо бросил на заднее сиденье осточертевшую ему шерстяную перчатку. Вот и ладушки… И не забыть выпить по дороге кофе у бедуинов. Нигде в мире – ни в Италии, ни в Греции, ни в Турции – он не пил такого кофе с кардамоном, как на местном пляже, в захудалой, на скорую руку склепанной стекляшке.
Поехали, благословясь… Боже, как эта соль слепит под солнцем. Могучий ровный кобальт, если взяться. А Фальк… что ж, Фальк – хорош… Еще бы не хорош – ведь вышел он из-под его собственной, Захара Кордовина, руки. Вот этой самой, артритной.
Если не считать перенесенного в третьем классе гонконгского гриппа, он никогда ничем не болел.
Иорданские горы, библейские горы Моава пребывали в туманной розовой дымке.
Хотелось протереть несуществующие очки или пальцем соскрести пленку с этой сиреневатой гряды, как с переводных картинок его детства. Их покупал в отделе игрушек винницкого универмага, что на Каличах, дядя Сёма («ребенок должен трудиться неважно что!»), и это было занятие на целый вечер.
В глубокую суповую тарелку наливалась теплая вода. Мутная, как целлулоидная, картинка (дом за забором, дерево, птичка на крыше – чистый Фальк!) – прилежно вырезалась ножницами из общего листа и погружалась в воду: набирала… Затем ее отряхивали от капель, быстро переносили на чистый сухой лист альбома, быстро и ровненько лепили «спиною вверх», чтобы взялась покрепче… Ну и, наконец, в дело вступали подушечки двух пальцев – указательного и среднего, они и сейчас самые чувствительные и самые рабочие. Тихохонько, легчайшим круговым движением пальцы приступали к разрыхлению верхнего слоя бумаги… Надо было пробиться к картинке, проникнуть к спящей красавице сквозь тугую мутную пелену, скатывая осторожно, почти не дыша, катышки мокрой бумаги… И вот в сердцевине вдруг обнажался чистого стального цвета хвост истребителя! «Гляньте, что витворает этот ребенок! У него пальчики, как у вора-Володьки! Надо его по искусству пустить!»
М-да… а ведь, по сути, это все тот же процесс расчистки живописи, и все то же замирание сердца, по-детски высунутый кончик языка и вечное ожидание чуда.
Он вел машину не шибко, на небольшой скорости, любуясь переменчивой игрой изумрудно-кобальтовых тонов справа, и огибая выступающие на дорогу слева слоновьи колени и крутые ребра карстовых скал.
Торопиться было некуда. Его самолет улетал только ночью.
По мере того как солнце поднималось над морем, ежеминутно менялось освещение, состояние воздуха, цвет воды: вначале нежная бирюза с длинными прожилками темного малахита, затем лазоревая гладь с каждой минутой все более сгущалась до изумрудной зелени. Наконец чистый и яркий сапфировый слиток больно засиял в окружении пепельно-розовых гор…
…Ачто это я, и вправду, никогда Жуке веера не привозил, спохватился он весело. Шали там дурацкие, сувениры какие-то, брошки-бусы. А вот веер – ни разу. Думал – банальность, пошлость цыганская, – и зря. В такую жару старуха хоть ветерка себе на нос навеет.
На развилке он свернул вправо, к морю, проехал метров двести по узкой грунтовой дороге до бугристой, в рытвинах, площадки, припарковался и вышел. Этот полудикий пляж недавно облагородили, оградили штакетником из прутьев, сколотили дощатый настил до самой воды. А заброшенное кафе-стекляшку прибрало к рукам какое-то предприимчивое восточное семейство.
И сейчас тут дивный оазис – да и долго ли у нас соорудить благословенный рай Магриба: разбросали цветастые подушки по деревянным лавкам, расставили стеклянных вазочек по пластиковым столам, развесили по стенам расшитые бисером лоскутные покрывала с зеркальцами. Главное, чтоб поярче-позвончее, позабористей, ведь тон здесь задает самое большое и блескучее, самое сине-зеленое, самое зеркальное вдоль берега покрывало…
– …но очень горячий! – Он строго поднял палец, и парень ушел варить кофе. А он, наконец, включил беспрестанно голосящий мобильник.
– Ты в аэропорту? – Ирина.
– Да, дорогая. Прости, не слышал звонка в этом шуме. Прохожу паспортный контроль…
Он, щурясь, глядел, как в проеме распахнутого окна искристо полыхает тяжелая глицериновая шкура воды.
– Я вроде хамила тебе утром? – неуверенно осведомилась она.
Он улыбнулся, так, чтобы она эту улыбку услышала…
– Никогда и ни за что! – проговорил твердо. – Ты самая нежная и трепетная. Ты знаешь, кто? Моя «палома бланка».
– Что-что?! Чудила, какой еще поломанный бланк?
– «Blanca paloma», любовь моя, по-испански значит – «белая голубка»…
Не переставая улыбаться, он кивнул парню, молча благодаря за принесенный кофе, и пальцами, собранными щепотью, показал, чтобы тот принес орешков или чего-то такого…
– Но это словосочетание – paloma blanca, – ты слышишь меня? – имеет еще и религиозный смысл. В народе так называют образ Богородицы из городка Росио, недалеко от…
– Ну-у-у… пошли-поехали куплеты тореодора.
– …недалеко от Севильи. Туда каждой весной, где-то в мае-июне, на «Пентекостес», это Пятидесятница, идут паломники. Целые процессии. И знаешь, очень эффектное зрелище: все в национальных костюмах, танцуют, песни поют – «севильянас», флейты тоненько так вьются, барабаны отчебучивают: тр-р-р-р-р… тр-р-р-р-р… тра-та-та-та-та!..