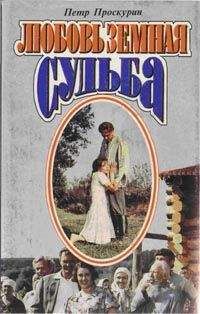— Что-то Манька Поливаниха мимо-мимо прямо царицей проплывает, — сказала она Захару однажды утром; собираясь в контору на наряд, он скоблил щеки бритвой перед тусклым осколком зеркала. — Раньше, бывало, за три версты норовила «здравствуй» сказать, а сейчас все нос набок.
— Что же я, еще в этом деле разбираться должен? — спросил Захар, густо краснея и потому становясь к ней боком и с раздражением дергая ворот рубахи, на котором не оказалось верхней пуговицы. — Лучше пуговку пришей, — сказал он, — а то мне на людях бывать.
— Укорил, пришить недолго, — засмеялась Ефросинья, довольная собой и тем, что так ловко обо всем поговорила, и после недолгого молчания опять засмеялась чему-то. — Смотри, Захар, на людей чаще оглядывайся. Это тебе не я, вмиг зубы покажут. Только один раз споткнуться... И без того чего только не наслушаешься...
— Ладно, ладно, — повысил он голос, оставляя за собой последнее слово и тем самым стараясь придать всему разговору характер обычной семейной перебранки. — Лучше подумай, о чем я тебе вчера говорил. Приглядись, найди еще двух баб почище, надо ясли открывать, хоть продых какой по женской части получится. Ребятня вон совсем уморила мать, который раз жалуется.
— Не понесут у нас детей в твои ясли, — словно про себя подумала Ефросинья. — Сроду у нас такого не бывало.
— Почему же не понесут? Не бывало, так будет. — Разговаривая, Захар кончил бриться, завернул бритву и помазок в сухую суконку и сунул на место, за большую продолговатую икону в переднем углу.
— Говорят, в ясли отдашь, потом и не увидишь детишек. Заберут, в одну колонию со всего району сволокут. Чтоб они ни отца, ни матери не знали, а только власть.
— Доберусь до этих языков, кто поповские слухи пущает, не поздоровится.
— От Варечки слыхала...
— Ну и дура! Вот неразумное помело! — вскипел Захар. — Вот я ее в город куда надо разок сгоняю, какого-нибудь парня посмелей проводить верхом пошлю, сразу язык укоротит-то, ведьма брехливая!
— А ты не очень-то заносись, Захар, — подняла на него глаза Ефросинья. — Нам не один год с народом жить, детям твоим еще придется.
Поглядев на жену, Захар внезапно коснулся ладонью ее затылка, провел по плечу и быстро ушел; Ефросинья придвинулась к окну и проводила его взглядом; ну что ж, она любила его той нерассуждающей бабьей привязанностью, когда все, что он делает, хорошо и нужно зачем-то; она отошла от окна успокоенная, но Захар, которому в этот день предстояла поездка в город с кучей всяких вопросов, вовсе уж не был спокоен, как показалось Ефросинье. Он меньше всего думал о себе и о дочери Поливанова, в его глазах это было делом житейским и простым, никого больше, кроме его бабы, не касающимся; он по-прежнему мучился потому, что в селе все упорнее ползли слухи о другом. Кто-то намеренно мутил воду, сеял слух, что в ссылку вместе со всеми должны были идти старики Поливановы с семьей, что послабление им выпало от Захара, и выпало не случайно, а Пырьевы, мол, должны были остаться в селе, а все получилось не так, как должно было получиться, и причиной всему называли председателя, спутавшегося с дочкой Поливанова и жрущего у него самогон и сало.
Захар не раз принимался перебирать в уме всех, кто мог бы по злу на него заниматься таким паскудным делом. Захар знал, что долго все это в узком кругу села не удержится и перехлестнет дальше, в район, и лучше уж самому сделать первый шаг и все по-своему объяснить. От этого решения он повеселел и, разговаривая в душной конторе с мужиками о том, на какое поле нужно прежде всего валить навоз, под пшеницу или под коноплю, он все таил под рыжими усиками, отпущенными последний месяц для солидности, тихонькую усмешку; что ж вы, черти бородатые, думал он, глядите на меня, как на висельника, ничего я у вас не отнял, никого не обидел, а вот темной злобы у вас на меня хоть отбавляй. И все потому, что промыкали жизнь по своим углам пугливыми тараканами, только с собой да с бабой, да и то кулак к носу — не проговорись по бабьему своему уму. Он поглядел в глубоко запрятанные глаза бригадира Юрки Левши, с которым вот уже битый час толковал, сколько возов навоза положить в норму на день, и, согласившись именно на десяти, хотя раньше настаивал на двенадцати, надел полушубок, взял кнут и рукавицы и, сказав, что едет в город по вызову к начальству, вышел из конторы, завалился в козыри — легкие санки со спинкой, специально для праздничных выездов; молодой жеребчик, по кличке Чалый, отобранный у богачей Макашиных, красиво выгнул длинную шею и, легонько всхрапнув, с места взял размашистой рысью, бросая из-под копыт комья сдавленного снега. Контора находилась в дальнем краю села, и Захару пришлось проехать чуть ли не по всей улице, за ним увязалась чья-то рыжая собака, со звонким лаем она проводила его далеко за село, норовя бежать на уровне с мордой Чалого; Захар посмеивался и подсвистывал, дразня; но собака, притомившись и высунув язык, отстала.
Вдоль дороги, особенно в низких местах, возле мостов, стояли старые, густые даже без листвы, ракиты; уж никто и не помнил, когда их посадили. Снегу успело намести много, у зарослей кустов сугробы лежали косо и отливали под низким солнцем стеклянной прозрачной синью; в двух или трех местах Захар заметил заячьи следы, а километрах в пяти от села дорогу перешла волчья стая; Захар попридержал Чалого и внимательно посмотрел след. Захар ехал, ни о чем определенном не думая, в полушубке и валенках было тепло, хотя мороз стоял звонкий, даже глаза стыли. Кончался декабрь, и Захар подумал об этом как-то вскользь; пройдет несколько дней, начнется еще один год, новые планы и заботы. Он заехал в райземотдел, отдал бумаги, подготовленные счетоводом Мартьяновичем, часа три походил по разным присутственным местам, договорился о гвоздях и скобах, о конных сеялках и двухлемешных плугах и сразу заторопился к Брюханову, секретарю райкома, человеку, которого он хорошо знал, уважал и молчаливо, по-мужски, любил. Разнуздав Чалого, привязав его к коновязи и бросив ему охапку душистого клевера, он вошел в знакомые двери; было уже двенадцать часов, и он подумал, что потом надо сходить в столовку; в приемной ему пришлось с полчаса подождать, и он сидел на стуле, расстегнув полушубок и стащив шапку, курил; помощник Брюханова, сидевший тут же и что то писавший, сквозь очки выразил молчаливое недовольство и, раза два покосившись на Захара, даже покашлял, отмахиваясь от наползавшего дыма. Захар, беззлобно посмеиваясь про себя, докурил до поры, пока уже нельзя было держать цигарку, и только потом приоткрыл дверцу топившейся голландки, бросил в нее окурок и опять стал слушать смутный, неясный говор голосов за клеенчатой дверью; можно было, конечно, уйти, никакого специального дела к Брюханову у него не было, но уходить он не хотел, его давно тянуло повидать Тихона, потолковать с ним без помех, на свободе, а то и посидеть за бутылкой горькой, вспомнить прошлое, шутка ли, мальчишками ходили в Крым бить барона Врангеля. Для такого просторного разговора недостанет у Тихона времени, с легким сожалением решил он, мужика в большую гору повело, первый хозяин в районе, и выше никого тебе нет. А ведь уж он его всяким видал, если припомнить...
Потихоньку беспокоил Захара и дошедший до него недавно слух, что Тихона посылают в Москву учиться; об этом надобно бы расспросить подробнее. Захар сощурился в усмешке; и помощник Брюханова задумчиво взглянул на него поверх очков; в это время клеенчатая дверь гулко распахнулась, и оттуда стали выходить люди; почти никого из них Захар не знал. Затем вышел и сам Брюханов, увидев Захара, шагнул к нему, протягивая руку.
— А-а, здравствуй, председатель. Говорят, не бывает предчувствия, а ведь я о тебе почему-то вспоминал сегодня, — сказал Брюханов, привычно и ловко расправляя под широким ремнем сбившиеся складки гимнастерки. — Только я тебя с утра ждал. Пообедаем у меня. Еще минут двадцать выдержишь?
— Выдержу, товарищ Брюханов, — сказал Захар, и Брюханов довольно хохотнул на его обращение и повернулся к помощнику.
— Давай дела на подпись, Гаврилыч, — сказал он и опять скрылся за клеенчатой дверью; ровно через полчаса они действительно сидели за столом в теплой и просторной комнате, и мать Брюханова, еще не старая на вид женщина, наливала им душистый домашний борщ; селедка, обложенная луком и кусочками соленых огурцов, уже стояла на столе, и Брюханов, подумав, махнул рукой, принес бутылку водки из другой комнаты.
— Знаешь, Захар, — сказал он, наливая в зеленоватые толстые стаканы, — у меня сегодня двойной праздник, во-первых, стукнуло двадцать девять, во-вторых, проведу сев и укачу учиться, решено. В Москву, брат! Так что ты не гляди на меня, мол, пьет Тихон. Причина!
— Вот и здорово, раз причина, с мороза погреться. — Захар взял стакан, пригладил другой рукой спутанные волосы и, покосившись в сторону матери Брюханова, спросил негромко: