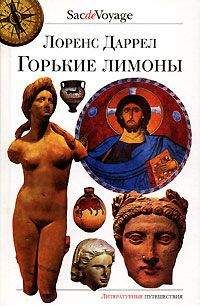За два дня до этого мы провели день на мысу, во владениях Мари; Панос настоятельно просил ее об этом: ему хотелось лично познакомиться с ее проектом колоссального сада, я же, со своей стороны, был рад съездить туда с человеком, знающим толк в деревьях, поскольку Янису, ее фактотуму, я не слишком доверял, и теперь, когда ее не было дома, хотел лишний раз убедиться в собственной правоте. Было теплое безоблачное утро, и мы выехали из дома в приподнятом настроении, поскольку убийств и взрывов не было уже целых двое суток. Нас постепенно разморило от жары, и в душе пробудились иллюзорные воспоминания о мирной жизни, успевшие осесть в самых дальних, едва ли не доисторических пластах памяти, но всегда готовые воскреснуть, чуть только наступало такое вот кратковременное затишье. Клито снабдил нас большой оплетенной бутылью белого вина, а собственный огород Паноса — латуком, огурцами и изящными стрелками лука-шалота. Коврига черного деревенского хлеба из непросеянной муки и несколько ломтиков вареной говядины дополнили запас продовольствия, которого, как мы прикинули, нам должно было хватить на весь день. Уложив провизию, мы заправили машину и тронулись в путь через серебристые плантации олив в сторону Агиос Эпиктетос, через утопающие в мягком солнечном свете раннего весеннего утра мирные зеленые предгорья Готического хребта, чей остро отточенный край был отчетливо прорисован на фоне безоблачного голубого неба. Венчавшие хребет могучие утесы отбрасывали теплый коричневато-золотистый отсвет, как каравай свежего хлеба.
— Куда? — спросил я, потому что обещал Паносу заехать в одно-два места, прежде чем мы возьмем курс на мыс.
— В Клепини, — сказал он. — Мой календарь подсказывает мне, что там сегодня начнут цвести цикламены.
У Паноса по всей округе были разбросаны любимые уголки и уголочки, целая собранная за долгие годы пеших прогулок коллекция: так любовник наперечет знает те места, где в нужную минуту расцветет желанный поцелуй — на шее у самой кромки волос, на изгибе грудной мышцы; более того, он постоянно держал в памяти настоящий цветочный календарь, который с точностью до одного дня подсказывал ему, когда войдут в пору цветения абрикосы в Карми или шиповник под Лапитосом. Его память хранила целую геоботаническую карту, и он всегда знал, куда нужно ехать за анемонами или цикламенами, за лютиками или бархатцами. И не ошибся ни разу.
Сделав уступку яркому солнцу, он не стал повязывать галстук и расстегнул воротничок; однако ничто на свете, даже удушающая августовская жара, не могло заставить его изменить своему старому, выгоревшему до рыжины черному костюму с пятнами мела на рукавах. Мы катили по прибрежной дороге, и всякий раз, как между олив и рожковых деревьев показывалось море, он радостно вскидывался, попыхивая сигаретой, поблескивая очками.
— Мы обо всем на сегодня забудем — даже о политической ситуации, ладно? — он улыбнулся и поудобнее устроился на переднем сиденье, с видом человека, который настроился вкусить радость жизни во что бы ни стало.
Я не сказал ему, что у меня под передним сиденьем маленький радиоприемник, и что мне придется время от времени прослушивать сводки новостей на всякий случай: вдруг возникнет необходимость вернуться на службу, и тогда мне придется бросить все и мчаться обратно в столицу. Тяжкий груз обязанностей никуда не делся — но в это роскошно-дремлющее утро ножные путы политики и войны казались невесомыми. Даже мой маленький пистолет казался жутким анахронизмом на фоне всей этой желтизны и зелени: на табачно-коричневых озимых полях проклюнулся юный ячмень и пытался встать на ноги. Мы катили по дороге, она извивалась и петляла, а море преданно бежало параллельно ей; потом мы очутились в небольшой деревне, названной в честь святого, о котором уже никто ничего не помнил. Было, конечно, искушение возвести название деревни к Эпиктету-философу, что, впрочем, крайне маловероятно; скорее всего где-нибудь в окрестных скалах жил и умер некий отшельник, духовный наследник святого Иллариона, оставив потомкам свое имя, а вместе с ним память об одиночестве и аскезе, что для греческого крестьянина всегда было символом святости.
Узкие улочки деревни были безлюдны, большинство магазинов закрыто, если не считать кофейни на главной площади, где, лениво просматривая вчерашние газеты, заутренним кофе сидела дюжина крестьян. Этой традиционной мирной сцене никак не соответствовал полицейский участок, как видно, недавно обложенный со всех сторон мешками с песком, с крепко сбитым коммандос, маячившим у передней двери; стоило нам подъехать, как его ярко-голубые на фоне загорелого лица глаза воззрились на нас с тяжелым и отнюдь не праздным интересом, палец лег на курок автомата. Он был начеку, и это утешало; стоило мне помахать ему рукой, и он тут же помахал в ответ, успокоенный, быть может, видом знакомого английского лица среди множества местных темных.
— Как бы мне хотелось, — сказал Панос, провожая восхищенным взглядом фигуру молодого солдата, — чтобы все тут было как прежде. Но так уже не будет.
Он покачал головой и глубоко вздохнул.
— Это теперь надолго, очень надолго, друг мой, если только… если… — Он снова тряхнул головой. — Они не будут принимать нас всерьез до тех пор, пока всякие горячие головы не научатся держать себя в узде. Смотри, олеандры. Рановато для змей, а, как ты считаешь? Мне показалось, я видел змею.
В нескольких милях от деревни, за головокружительными поворотами и спусками, у самой дороги громоздятся настоящие песчаные отвалы — в четверти мили от пляжа. Рожковые деревья и оливы стоят здесь по колено в песке, который из года в год продвигается все дальше и дальше от моря, понемногу убивая, удушая и без того чахлые заросли кустарника и горного дуба, зажав их между коричневатых дюн. Пахиаммос, огромный песчаный пляж, по непонятным причинам снялся с места и двинулся вглубь суши. Однако, образовавшиеся прямо на дороге барханы — воистину благословенье божье для киренских строительных подрядчиков, которые шлют и шлют сюда грузовики за дармовым песком; здесь мы наткнулись на Сабри, в красной рубашке и серых брюках, он сидел, не шевелясь, под рожковым деревом, а чуть поодаль команда крякающих от натуги молодых турок загружала машину песком. Мы притормозили, и он с видимым удовольствием тут же встал и подошел к нам. Они с Паносом были если и не друзьями, то по крайней мере старыми знакомыми, и было отрадно видеть их откровенное взаимное расположение. Они были односельчане, и старые деревенские связи здесь, так сказать, на нейтральной территории, были сильнее всех национальных и религиозных распрей.
— Так что, домов ты больше не покупаешь? — спросил Сабри, и улыбчивый Панос ответил за меня.
— Без твоего участия? Да ни за что на свете. Нет, мы решили съездить за цветами.
Сабри сказал:
— Ну, я-то езжу только за деньгами, — и кивнул в сторону маленькой трудолюбивой команды в разноцветных головных повязках. — Мы люди бедные, — он скорчил жалостливую гримаску, — у нас выходных просто так, захотел и поехал, не бывает.
В данный момент, добавил он, речь идет о строительстве большого дома для одной английской леди.
— Дом не такой стильный, как у тебя, мой дорогой, но такой, знаешь, как у вас говорят, щ-щикарный.
Я сразу понял, что он имеет в виду. Особняк собирались назвать "Охинлех"[99].
Мы посидели немного на теплом песке под старым рожковым деревом, обменяв добрый глоток нашего вина на пару розовых гранатов, украденных Сабри по дороге с плоского навершия деревенской стены в Казафани, а тем временем солнечное утро уже заставило окрестные предгорья переливаться и подрагивать во влажном горячем мареве, а вытертая серая крокодилья кожа Буффавенто приобрела фиолетовый оттенок. Луна не спешила покидать небосвод, бескровная и бледная. Где-то в блеклой синеве, за пределами видимости, самолет преодолел звуковой барьер, раскатив по горам громовое эхо.
— Бомба? — не оборачиваясь, лениво спросил Сабри.
В расслабляющей неге и благолепии этого роскошного утра даже и в голову не могло прийти, что это слово может звучать как-то иначе, чем-то отличаться от слова "ящерица" или "цветок". Панос поглядел в сторону и зевнул. Наше собственное молчание окутывало нас подобием кокона, сотканного из тончайших прядок горьковато-соленого воздуха, которые ползли вверх по горячим дюнам, шевеля тихо дышащие тени под рожковыми деревьями.
— Лето начинается, — сказал молодой турок, утирая со лба пот концом цветастой головной повязки. Потребовалось немалое внутреннее усилие, чтобы оторвать себя от этих теплых дюн и отправиться искать дорожный указатель с надписью "Клепини", но Панос никак не хотел забыть о своих цикламенах, и моя маленькая машина нехотя свернула с шоссе и начала медленное восхождение по куда менее доброжелательному к ней деревенскому проселку.