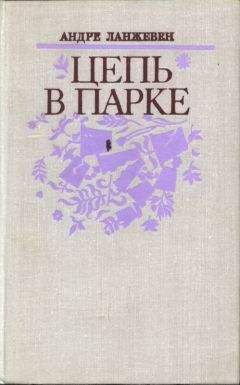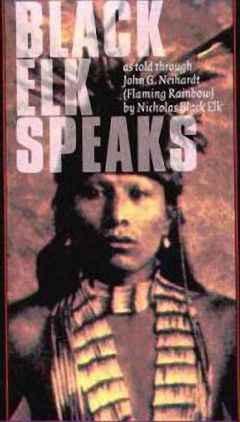— Ну, если очень хочется есть… Пошли, я покажу вам мою подводную лодку. А есть всегда хочется.
— Наверное, у твоей сестры не только твой голос, но и твой аппетит, — говорит он, чтобы успокоить ее.
Но человек в голубом не приходит ему на помощь.
— Женщины всегда хотят того, что не существует. И поэтому быстро забывают все неприятное.
Она швыряет ему сумку прямо в лицо, но он только смеется, и смех его тоже раздается где-то впереди, перед ним.
— Но все женщины когда-то были детьми. Об этом помнят только мужчины, которые украли у них детство.
— А где ваша подводная лодка? — спрашивает Джейн, как видно, она вдруг решила, что перед ней сумасшедший, и не стоит в самом деле принимать его всерьез. — Мужчины, женщины, до чего же вы странно выражаетесь! Есть вы, я, он, и никто ни на кого не похож. И слава богу!
Они идут к реке мимо большого склада.
— Ты совершенно права, Огненная богиня. Подводные лодки на самом деле все одноместные, и ты там всегда один-одинешенек, а если тебе вдруг вздумается пригласить туда еще кого-нибудь, лодка перегрузится и мигом пойдет ко дну.
— Никогда я этого не говорила, — протестует Джейн. — Мы с Пьеро уплываем вместе на одной подводной лодке, и нам никто не помешает любить друг друга и быть счастливыми. А вы, видно, по воскресеньям не в ударе.
— Вы еще очень маленькие, совсем дети, у вас нет памяти.
— Что вы все время твердите про память? На что она вам, вы ведь в школу давно не ходите.
— Как раз потому, что я уже не ребенок и знаю, что все возможное в прошлом.
— Скажите по крайней мере, где Эмили. Я должна с ней повидаться.
— Она осталась там. В моей памяти. Женщина и горе, и женщина в море.
Похудевшая луна внезапно появляется в просвете между облаками и бросает на воду отблеск, точно осколок зеркала.
— Крыса и то не такой чокнутый, — заявляет Джейн, наклоняясь над водой. — Ничего не разглядеть. Вы должны нырнуть на самое дно?
— Придется. Она стоит на якоре.
— Ну что ж, я за вас спокойна. Вы превосходно плаваете.
Он садится, свесив ноги над водой.
— Ну вот, теперь я все бросил окончательно. Мне остался только голубой простор, но он такой беспредельный.
— А где ваша сигара? — спрашивает он.
— В подводной лодке курить запрещается.
— Зачем вы хотели нас видеть? Ведь мы несерьезные.
— Теперь я тоже стал такой, как вы. Потому и хотел.
— Неправда. Никогда еще не видела человека серьезнее вас. Вы словно просите у нас чего-то, чего у нас нет.
— Но вы мне все уже дали. И я вам очень благодарен.
Он поднимается, чтобы взглянуть в глаза человека в голубом, они едва заметно поблескивают, видно, ничего там больше не осталось, кроме замерзших слез, о которых говорила Джейн.
— Посмотри ему в глаза, Джейн. Это то, о чем ты говорила?
Она наклоняется, заложив руки за спину, и рассматривает его с ледяным спокойствием. Потом выносит свой приговор:
— Да. И больше ничего нет.
— Вы, верно, давно не спали или все время на затмение смотрели?
Он покорно, без всякого смущения терпит их осмотр.
— И то и другое. А что?
— Вы словно ослепли.
— Так нужно, ведь я должен нырять под воду. — И теперь его голос словно всплывает из глубины реки.
Он бросает взгляд на луну, потом медленно снимает часы и протягивает ему.
— Ну, пора. Дарю их тебе, ведь это часы земные.
— Золото и зеленовато-черные циферки слабо блестят в свете луны.
— Ты подтолкнешь меня чуть-чуть?
— Зачем? Вы же умеете пырять.
— Но я должен нырнуть задом наперед, чтобы приплыть прямо к входному иллюминатору. А трамплина тут нет. Сам я не смогу.
Он встает на самый край причала, приподнимается на носках, вытягивает руки над головой, и кусочек луны отражается в его широко раскрытых глазах.
— Может быть, мы с вами еще встретимся в стране Великого Холода. Раз, два, три… Ну, что же ты!
Он даже не успел прикоснуться к нему, на какую-то долю секунды темно-синяя фигура застыла прямая, как стрела, но вот вода сверкнула, точно треснувшее зеркало, только почти бесшумно, и ни единой морщинки не появилось на ней. Потом до них донесся чуть слышный плеск волны о бетонную стенку. Они долго ждали в полном молчании.
— Вода заглушает шум моторов, — наконец сказал он.
— Мне холодно, — сказала Джейн.
— Пошли, я отведу тебя к нам домой.
Теперь он не сомневается, что человек в голубом один уплыл в море и, даже если он не существует, даже если он его просто выдумал, все равно он его больше никогда не встретит. Они с Джейн одни в целом мире, Джейн — это единственный не выдуманный им свет, рассекающий тьму.
— Ой, опять мышь. Я слышу, как она скребется где-то тут, прямо у нас за спиной.
— И вовсе это лягушка.
— Лягушка — в стене?
— В старухиных цветах. Лягушки любят цветы, это всем известно.
— Ты когда-нибудь видел лягушек в цветах?
— Говорю же тебе, это в стене.
— В стене я лягушек тоже никогда не видел. И потом, летом мыши в домах не водятся. Это тоже всем известно.
— И никогда больше двух пауков не бывает?
— Я же тебе объяснил. И этих двух я уже убил. А если их больше двух в одном доме, они сжирают друг друга, как старые девы. Спи. Если ты не будешь спать по ночам, все сразу догадаются, что мы бездомные.
Она на время замолкает, и он отчетливо слышит, как мыши грызут что-то в стене, а потом срываются вниз и глухо шлепаются на землю. Но он так счастлив, что готов ради нее не спать хоть всю ночь и даже глотать мышей живьем, чтобы она не слышала, как он их убивает. Он знает, что она не спит: сначала вздыхает глубоко-глубоко, потом замирает, напряженно прислушиваясь, а потом начинает дышать часто-часто. Она плотно завернулась в серое одеяло, чтобы не испачкать свое бледно-золотое платьице, а главное, укрыться от шорохов заброшенного дома. Голова ее лежит у него на коленях, а сам он сидит, прислонившись к стене, и при малейшем его движении со стены сыплется штукатурка, словно дождь из пауков, поэтому он застывает, стараясь не шевелиться, и скоро у него начинает ныть спина. Луна слабо светит в дырку слухового окна, с улицы тянет запахом навоза, доносится аромат цветов и еще чего-то, он не знает чего, вроде похоже на корицу, но гораздо слаще. В темноте ее острое личико кажется очень узеньким, а волосы вздымаются, как трава в поле.
— Пушистик…
— Спи, а то я погашу луну.
— Который час?
Он рад, что может изменить позу, и ищет в кармане часы человека в голубом. Потом долго всматривается в зеленоватые циферки.
— Уже первый час. На кого ты будешь похожа завтра? Спи.
— Дай мне руку, вот так. Я хочу все время чувствовать, что ты здесь.
— Вот балда, ты же лежишь у меня на коленях. Ты сразу заметишь, если я встану.
— Как ты думаешь, про подводную лодку — это правда?
— Да, иначе бы он вынырнул. Больше пяти минут под водой не пробудешь.
— А вдруг он утонул?
— Знаешь, уж лучше бы ты пугалась мышей. Человек, который умеет плавать, не может утонуть, даже если очень этого захочет.
— Я нехорошо разговаривала с ним. Никогда таких грустных глаз не видела. Знаешь, он все притворялся, что проигрывает, вот и допритворялся — и вправду проиграл, да, видно, так много, что утопился бы, не будь у него подводной лодки. А ты когда-нибудь думаешь о памяти? Я — никогда. Что это такое на самом деле? По-моему, об этом никто никогда не задумывается.
— Память… ну… это ты у меня в голове, вот ты будешь моей памятью на всю жизнь.
— А ты моей. Но он сказал, что у женщин нет памяти. Потому что его памятью была Эмили, а ее больше нет.
Вдруг она выпрямляется и говорит голосом, идущим из самой глубины ее существа:
— Ведь неправда же, что Балибу умер, да?
— Конечно, нет! Просто я не хотел ему ничего рассказывать.
— А я так испугалась. — Она вновь устраивается у него на коленях. — Наверно, он тоже не хотел нам ничего рассказывать, потому и сказал, что Эмили умерла.
— Конечно. Ему нельзя верить, он играл с нами, и притом очень плохо. Спи, глупышка, а то я пойду к твоей маме и скажу ей, что ты умерла.
— Знаешь, а мы проезжали мимо этого монастыря. Он большой и красивый, как замок, на самом берегу реки, а вокруг цветы и деревья.
— Тем лучше. Тебе, видно, не терпится туда попасть.
— И еще видела наш новый дом, он недалеко от монастыря. Такой унылый, в самом конце недостроенной улицы, и вокруг — ни души.
— Рад за тебя! Давай, беги туда прямо сейчас. И дело с концом.
— Какой же ты злюка! Я болтаю, просто чтобы не было страшно, а ты сердишься!
— Разве так убегают на край света? Рассказываешь мне про монастырь и про новый дом, словно уже сидишь на чемоданах. Ну я-то о своем новом доме ничего не знаю, так что ничего рассказать тебе не могу. И потом, ты же клялась мне, что не будешь бояться.
— А я и не боюсь, Пьеро. Просто я первый раз сплю не в кровати. Дай мне руку.