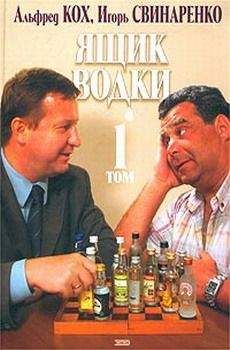И чтоб обозначить тему «Нью-Йорк – город контрастов», нельзя ж без этого, упомяну тут итальянское заведение Scalicella, что на Третьей авеню и 65-й – или все-таки 64-й? – улице. Ресторан, даром что разместился в подвале, входит в десятку или пятерку самых пафосных в городе. Обед там обходится приблизительно в 30 раз дороже чем в Нью-грин-боу. Но он, присоединюсь к мнению экспертов, которые предупреждали о steep prizes, того стоит. Ну, морепродукты морепродуктами, а взяли мы все равно красного. Потому что захотелось и не было смысла себе в этом отказывать. Официант принес бутылочку Nero d'Avola, плеснул мне чуть в бокал и застыл в ожидании.
– Заебись, – кивнул я официанту, понюхав и глотнув винца. Он все понял, тут же кинулся наливать. Странно, откуда они там знают по-русски? Не Брайтон же… На который я рвался, люблю я этот законсервированный Совок, который наши там устроили, – да дела не пустили.
Еще одно кулинарное впечатление: ресторан Fiorella, возле Линкольн-центра. Там такая пицца, какой и в Милане вам не подадут. Подложка тонкая как бумага! Правильная, короче. Ну и прочие блюда на уровне. И еще у них уникальный сервис. На прощание нам принесли три поллитровых графинчика с настоянной на разных специях граппой.
– Мы не заказывали! – говорю.
– Это в счет не включено. Мы так принесли, вдруг вы захотите на посошок употребить.
Я был растроган – ну где еще такое? И незаметно для себя выпил три рюмочки.
Нельзя сказать, что мы в эту свою поездку только и делали, что договаривались с издателями и переходили из кабака в кабак. Это было бы однобоким изображением действительности. Потому что, кроме театра, мы сходили еще и в музей. Так-то! В Музей современного искусства. Интересно было взглянуть, как они там устроились после большого ремонта. Так значит, музей. Ну, с импрессионистами все понятно, они давно вошли в номенклатуру. А какой-нибудь Энди Уорхол все еще может взволновать. Вот нарисовал человек банки с супом, причем без фокусов, а тупо, как маляр. То, что он стал таким образом миллионером, это личное дело покойного. Но как же общественность такое допустила? Когда парень и вовсе, может, рисовать не умел? Что за этим кроется? Было мнение, не раз оно высказывалось, что все дело в вопиющей бездуховности американского общества. Но – нет, не могу я принять такую причину. Я б принял, если б не видел каких-то вещей во время своих наездов в Штаты. Я там видел множество пенсионеров, которые, не додумавшись перекрывать хайвеи, обедают себе в «Макдоналдсах», припарковав свои старомодные «линкольны» на бесплатных стоянках. Видел безродных сирот, которых лечат в дорогих клиниках. А уж сколько раз я цеплялся глазом за пандусы, которые устроены повсеместно для инвалидных колясок! А еще у меня одна из самых смешных американских картинок такая. Негр, шофер автобуса, на котором я однажды ехал из Нью-Джерси в Нью-Йорк, разувается и, убрав ботинки в сторону, жмет на педали. Картина кажется страшной первые секунды, пока ты не осознаешь, что и шоферские носки, и ботинки, и пол в автобусе – все чистое и свежее, как гимназистка… Культурный шок, в общем. Так в чем же тайный смысл поделок Энди Уорхола? Может, в том, что любой может сделать карьеру, было б желание? И, если нет таланта, все равно надо дергаться и шевелить мозгами? И не пасовать перед авторитетами? Отчего ж нет?..
Однако же 9/11 таки имело место быть в этом городе. Увы. Я долго откладывал, тянул до последнего – и уже перед самым отъездом в JFK отправился в нижнюю оконечность Манхэттена. Шел, шел по Черч-стрит, к перекрестку с Визи-стрит совсем уж замедлив шаг, – я знал, что будет за поворотом. Дошел – и поднял глаза, и посмотрел направо. Тут они были, обе. Две не скажу красивые, но мощные, солидные, внушающие доверие башни. А теперь тут навес над площадкой, и дальше мрачная решетчатая ограда типа тюремной… За ней – пустырь, а на пустыре унылая такая серая стройка. И то спасибо, что не груда обломков, не руины, не котлован. Я рассмотрел на стенде у забора плакат с изображением будущей башни, сказал себе: «Sic transit gloria mundi» – и пошел прочь по Фултон-стрит мимо уцелевшего «Миллениум Хилтон» и довольно скромной с виду церквушки, которая на самом деле не что иное, как собор Св. Павла, который помнит еще большой пожар 1776 года. Все-таки повезло еще, что удар террористов оказался практически точечным. Все вокруг уцелело! Что-то похожее я наблюдал в Сантьяго-де-Чили и удивлялся: как же это летчики Пиночета обстреливали ракетами президентский дворец Ла-Монеда? В самом центре города? В середине жилого квартала? Да так, что не разнесли ни одной квартиры нечаянно? (Впрочем, надо признать: и у нас, когда били по Белому дому из танков, посторонних вроде не задевали.) Кстати, хотел бы я знать, не переименовали ли чилийцы одну из центральных улиц своей столицы – авеню им. 11 Сентября? Они ее так назвали в 1973-м, когда сместили Альенде, – в тот день начался путч Пиночета.
Так вот, на Фултон эту стрит я захожу в каждый приезд в город. Там мой любимый букинист Strand, я в него обыкновенно шел сразу после захода в книжный Border's, который был в северной башне; впрочем, хватит уж о грустном. Лучше о веселом: о том, что Нью-Йорк не кажется чужим, он как родной. Отчего? Поди знай. Но и потому тоже, что как сойдешь с главных улиц в переулки, так там, куда ни глянь, родные картинки, знакомые детали: битый асфальт, облупленная штукатурка, кучи неубранного снега на обочинах, лужи по щиколотку… Радость узнавания, умиление от встречи со знакомым. А совсем уж добил меня тихий негр на той же Фултон: он, расстелив на тротуаре драную шаль, разложил на ней товар – пиратские DVD с «Авиатором» и прочими новинками.
– How, – спрашиваю, – much?
– Пять долларов – отвечает он смущенно.
Пятерка! Да это ж меньше 150 рублей – даже на Горбушке нет таких цен. Что значит протестантская этика – пираты и те не ломят цены. Откуда у них берется совесть? Где они ее добывают?
Ну не красавец этот негр? Люди – они везде одинаковые. Как же я люблю эти моменты, когда в чем-то чужом и незнакомом проглядывают знакомые черты. Видите, у них там все как у нас. Ну почти все… Кое-что…
И.С.
Сейчас я вам расскажу одну историю. Знаю, что вы после этого обругаете меня. Назовете свиньей и гондоном. Поругателем святынь и все такое. Мол, нет у этого Коха ничего святого…
Вообще у меня сложные отношения со святостью. Вторая заповедь гласит: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои».
И как же прикажете мне после этого заводить себе какие-нибудь святые, священные штуковины, кроме его единственного? Чтобы он потом мой род до четвертого колена преследовал? Дудки! Нет у меня ничего и никого святого! И снизойдет пусть на меня и на мой род милость Господа…
Как начало? По-моему, неплохо. А впрочем, можете отнестись к этой истории как к дурной шутке. Ведь ничего этого на самом деле не было, и все это – некая импровизация на заданную тему. Этакий джаз. Однако хватит тянуть, пора уже перейти к делу. Итак, вот моя история.
Крупный широкоплечий молодой человек в форме артиллерийского офицера сидел на лавочке в Екатерининском саду Санкт-Петербурга. Загорелое лицо и густая, давно не стриженная борода выдавали в нем приезжего с юга. Было ясно, что офицер прибыл либо с Кавказа, где воевал с горцами, либо из Севастополя, который был несколько недель как оставлен русской армией: молодой император Александр II начал свое царствование неказисто – с поражения в войне.
Офицер не выглядел удрученным. То ли здоровый организм не хотел долго предаваться меланхолии, то ли вообще он был человеком с крепкой нервной системой, но он улыбался и весь его крепкий, мускулистый вид излучал бодрость и уверенность в себе.
У поручика были все основания для того, чтобы легко смотреть на жизнь. Он был богат, из известного рода графов Толстых. Несмотря на грубые черты лица, он пользовался успехом у женщин и к тому же был успешный, модный беллетрист, сочинениями которого зачитывался даже государь император.
В Петербург он прибыл, чтобы обсудить литературные дела со своим издателем – известным поэтом Некрасовым. Некрасов был тоже богат, знаменит и абсолютно развращен. Ему нравилось растлевать молодого провинциального графа, и он назначал ему встречи поздними вечерами в самых утонченно-извращенных салонах и борделях столицы.
Толстой прекрасно понимал эти уловки и охотно поддавался сладкому зову греха. Ему нравилось изучать эту сторону жизни. До сих пор у него не было настоящего опыта, разве несколько влюбленностей в Казанском университете да деревенские девки в Ясной Поляне. Была, правда, одна казачка… Но что казачка? Меж ними – пропасть. Он аристократ, изучавший древние и восточные языки, а она даже читать не умела. На чувственности далеко не уедешь. Даже сейчас он вспоминает о ней со смешанным чувством: с одной стороны – горящие зеленые глаза, черные брови, мускулистые тугие бедра, певучий, грудной голос, а с другой – запах пота и навоза, нечищеный рот, шершавые, мозолистые руки, большие грязные ступни…