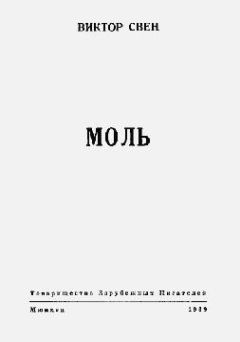Тогда кто-то, кажется Ступица, заспорил, сказал, что как такое можно думать о человеке, которого не знаешь и которого в глаза не видел.
— Я всё знаю, — махнул рукой Тобаридзе. — И потому кинулся, к нему. Всё я знаю об Уходолове, — повторил Тобаридзе. — И вы знаете, да только вы не понимаете его. Судьбу его не понимаете! Для вас что? Финка — пистолет — мокрое дело — хаза — шалман… Вот и всё ваше тут! — говорил он, и трудно было понять, что это: насмешка или сожаление?
Очень часто говорил он, улыбаясь, такими вот малопонятными словами. Они никого не обижали. Наоборот, слушающим даже нравилось, что Тобаридзе посмеивается над ними очень элегантно, без паскудных слов, и до того душевно, что даже Ступица чувствовал себя каким-то другим и не совсем обыкновенным.
Как-то, всегда молчавший, Атаманчик пристально посмотрел на Тобаридзе и сказал:
— Видишь ли, Тобаридзе, ты не одинокий нам. Ты — особый. Ты, может быть, большой интеллигент. Об этом все наши догадываются и в тебя верят. Хоть и не знают, откуда такая твоя сила. А я вот знаю. Ты, брат, действительно стоишь того, чтоб перед тобой шапку снять! Ты такое сделал, что вряд ли другой который на то способен. И об этом таком, тобою сделанном, кой-кто знает. К примеру, тот же самый Уходолов, с которым, ты говоришь, тебе хотелось бы стоять рядышком. И еще один такой есть…
Тобаридзе — это была неожиданность для всех! — прищурившись, следил за шевелящимися губами Атаманчика и вроде бы что-то такое вспоминал. А когда вспомнил, то глаза его заблестели, посветлели, заиграли яркими точками.
— Уходолов знает? — спросил Тобаридзе. — Верно! А кто тот «еще один»?
— Нету Уходолова, — ответил Атаманчик. — Если б он был, он бы сам рассказал. А «еще один»… стоит ли о нем поминать?
— Уходолова, конечно, нет. А всё ж таки, кто «еще один»?
— Тот «еще один», — Атаманчик посмотрел в лицо Тобаридзе, — тот самый «еще один». — я.
— Ты?
— Точно.
— Как же так?
— Да так. Может помнишь, Тобаридзе, того… ну… особоуполномоченного по оперативным делам.
— Это кого?
— По фамилии Перно. Который любил сам вести допросы таких, как ты, Тобаридзе. Помнишь, как тебя схватили в Рязани? Тогда вот сам Перно приехал туда, чтобы доставить тебя в чека, на Лубянку, а по дороге, в вагоне за решетками, толковать с тобою. Перно любил разговоры с интеллигентами, чтобы потом, после душевной беседы, поглядеть, как расстреливают в подвале таких, как ты. Наедине с тобою сидел Перно в вагоне, окна которого были в решетках. Толковал. Даже смеялся. А что после смеха случилось… ну… об том ты сам получше знаешь, — закончил свою длинную речь малоразговорчивый Атаманчик.
— Гэй! — крикнул Ступица. — Чего язык прикусил? Мы тоже хотим знать, что такое сталось в вагоне после смеха!
Атаманчик передернул плечами.
— Чего такое сталось в вагоне — хотите знать? В вагоне на полу лежал Перно, а Тобаридзе… Где он был столько лет и как ему былось, не знаю, да только теперь он тут, с нами. Без Уходолова. А что такое в вагоне, после смешных разговоров с Перно, стряслось — спросите у Тобаридзе. Ему лучше об этом знать. Он, может, с тех пор еще тот же самый пистолет в кармане таскает. А с пистолетом, вы сами видели, он управляется ловко. Так что к Тобаридзе и поворачивайтесь.
И все повернулись к Тобаридзе, тут же вспомнив, что живет он под кличкой «Дикий Барин». Перед ними в самом деле был барин, ни на кого не похожий и никого не боящийся.
— Слышь, — попросил Ступица, — давай, выложи, как там в вагоне?
— Выложить можно, — засмеялся Тобаридзе. — Разговор у меня с Перно был тонкий. Понимаете? Он вез меня на расстрел. И беседовал. Обо всем. О политике и о смысле жизни, той самой моей жизни, которая для меня, по предположениям Перно, закончится самое позднее послезавтра. Деликатный был обмен мнениями. И до того отвлеченный, что вы и не поймете! Довольно с вас и того, что Перно больше никуда не ездил и что его пистолет я и до сих пор храню на память.
— Да ты выложи главное, — опять впутался Ступица, — мы историю уважаем, как и что было. Ты не бойсь, Тобаридзе, что каких-то там умных слов мы не поймем. Они нам ни к чему, ты только выкладывай, а слова — они сами о себе дадут знать. Мы всё в точности сообразим. И политику и твою отвлеченность раскумекаем.
Тобаридзе, посмеиваясь, рассказал им обо всем том давнем. Говорил он даже с удовольствием, как будто бы ему самому приятно было вспомнить историю, которой — при случае — не грех повеселить других.
Он говорил, а слушающие как бы видели и тот вагон с решетками, и Тобаридзе, и сидящего перед ним страшного оперативника Перно.
— Перно угощал меня папиросами, — рассказывал Тобаридзе, — и хвалил меня. «Люблю, — говорил он, — таких, как вы, господин Тобаридзе, которые не боятся стенки и перед нею ничуть не бледнеют. Уважаю, — говорил Перно, — очень уважаю вас, прямо будет любопытно посмотреть, как вас доставят в подвал для расчета. Курите, — упрашивал Перно, — и расскажите, какие ваши планы на будущую загробную жизнь и почему вы так не любите партийную власть?» А я ему отвечаю, дескать, планов у меня пока что нет никаких, а что не люблю — это верно. «Планам вашим пришел конец, — говорил Перно, — это совершенно правильно. И по вашей же собственной вине, — говорил Перно, — вам бы, господин Тобаридзе, с вашей отчаянностью, — говорил он дальше, — только бы Ленину служить, а вы наоборот… На чем вы, господин Тобаридзе, и прогадали. И о чем можете пожалеть»… «А мне жалеть нечего, — отвечал я Перно. — Вот вы везете меня, а вам надо было бы меня там, на месте, в Рязани в расход пустить. Там, где я ошибку сделал: не рассчитал патронов. Вот об этой ошибке я действительно жалею»… «Это вы считаете за ошибку? — засмеялся Перно. — Эту ошибку мы поправим в подвале. Там у нас патронов хватает. А всё ж таки на мой вопросик не ответили. О чем таком жалеете? Сообщите, а слова ваши я приобщу к делу. Для полноты, так сказать, следствия и для удовольствия „тройке“. Понятно?» «Вам нужны мои слова? — спросил я. — Хорошо… Ну, вот вы забрали всё, взамен всего сунув облагодетельствованному вами народу отпечатанную на газетной бумаге инструкцию о грядущем счастье. Счастье, по инструкции, коммунизм. С питательными пунктами, с красными уголками, где коллективно будут петь песенку „Ленин — наше знамя. Сталин — наш отец“. Это мне не нравится. Я не люблю, чтоб меня обманывали. Я — против абстрактного искусства. Я нормальный человек. Я не толстовец. За оторванную руку я оторву голову?» Вот я выкладываю такой символ веры перед этим Перно, а он радуется, смеется, ему всё это по душе. Он даже стал мне подмигивать, хотя глаза у него, понимаете, такие мутные и вроде бы неподвижные. Ну, вот он подмигивает и вдруг, перейдя на «ты», говорит: «Ты прав! Обманывать ерундой, абстракцией легче всего. Ты согласен?» «Согласен, — торжественно ответил я, — на сто процентов! Правильно: всё абстракция! И вы, и я, я даже думаю, что и сама по себе абстракция — тоже абстракция. Так что и говорить больше не о чем». Перно захохотал. «Шутник ты, — говорил он, — большой и отчаянный шутник. И мне будет занятно посмотреть, как ты станешь к стенке. О стенке ты думаешь?» «Об этом, — ответил я, — чего мне думать. Об этом вы думаете, так что мне и голову не стоит ломать. Лучше — курить». И я действительно курил и вдруг удивил меня торчащий из кармана Перно пистолет. Вот это не абстракция, сказал я себе, и страшно заволновался, вот, думаю, одна единственная реальность. Стоит только изловчиться и получить пистолет, и будет убита абстракция, и всё станет простым и понятным. Где-то будет подниматься пшеница над полем, кто-то песню споет, ну, а я сам… что ж, может быть и мне доведется самому срывать листки моего календаря, не мучаясь, что он становится всё тоньше и тоньше. О таких моих мыслях не догадался Перно. Он сидел против меня и не успел сообразить, что он уже мертв.
— Вон как дело было! — воскликнул Ступица. — До чего жалко, что об такой истории не узнает Уходолов. С чего ты сразу сюда не кинулся?
В том мире, в котором они жили, нужен хозяин. Таким хозяином был Уходолов. Его уход разрушил их спайку, организованность, порядок.
В Тобаридзе они увидели достойную замену, и без всякого сговора, инстинктивно потеснились и выпустили его вперед, признав за ним право приказывать.
В то время, когда Тобаридзе уже был хозяином, произошел случай, не вспомнить о котором нельзя. Внешне пустяковому, этому случаю суждено стать той чертой, за которой уже начиналось движение к развязке.
Тобаридзе редко появлялся на Подоле и почти никогда не заглядывал в потайной шалман Булдыхи.
Как-то у Булдыхи сидели Атаманчик, Ступица и еще кто-то, на кого хозяйка поглядывала искоса, а потом и прямо сказала: