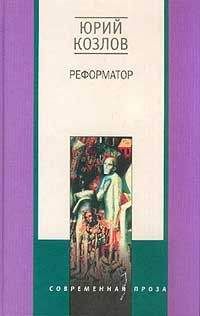Зачем было во всеуслышание (пусть даже и символично) об этом кричать?
Никита Иванович до сих пор не мог забыть те знаменитые, в мгновение ока облетевшие мировые новостные сети, телекадры.
Ремир, несмотря на лютый мороз, был в черном кожаном плаще, струящемся, переливающимся на нем как новенькая змеиная кожа, оперение ворона, живущего триста лет и три года, и в белоснежном, подаренном далай-ламой шелковом шарфе, к которому не приставала грязь. Ремир, случалось, спускался в этом шарфе в угольную шахту, поднимался из нее, черный как ночь и только шарф пронзительно белел, как хрестоматийный парус одинокий.
Он прилетел на завод на вертолете (на территории была оборудована площадка), но долго не шел в цеха, задумчиво осматривая открывающиеся за бетонным забором горные пейзажи: бескрайние снега, кинжально-синее небо, как в ножнах, в светящихся точках звезд, с белой, как круглая борода или сугроб, луной, ярким, но холодным, как слово-импотент, искрящимся солнцем. Редкие светлые волосы — он был без шапки — заиндивели на морозе, и казалось, над головой у президента светится радужный нимб. Ремир (в отличие от свиты) как будто не замечал холода. А между тем на электронном табло у входа в цех значилось — 47 градусов по Цельсию.
Он молча выслушивал объяснения, в упор не замечая красномордого (но уже начинающего от холода белеть) хозяина, которому с немалым трудом давались длинные периоды речи без мата и привычных ему блатных оборотов.
Хозяин — молодой миллиардер, стремительно поднявшийся при прежнем президенте — был вынужден оперировать не вполне органичными для него (технологическими и экономическими) терминами, а потому он не просто злился на мороз, президента, свиту и т. д., но и не считал нужным скрывать эту свою злость. Кем, в конце концов, был для него, становившегося благодаря демпинговому экспорту сверхновой стали каждый день богаче на миллион долларов, очередной — четвертый — президент? Да никем! Час времени (если разделить миллион на двадцать четыре) хозяина стоил более сорока тысяч долларов, и ему не хотелось проводить его на морозе. Вот почему он довольно бесцеремонно ухватил президента за рукав и предложил немедленно пройти в цех, пока «яйца от холода не отвалились».
Президент посмотрел на него долгим, ничего не выражающим взглядом.
Хозяин глаз не отвел, выдержал президентский взгляд.
Между ними как будто протянулся невидимый канат.
На хозяйском участке каната виртуально сосредоточились: миллиарды долларов в российских и иностранных банках; вздувающиеся и лопающиеся как пузыри, оффшоры; сказочно обогащающие избранных и разоряющие всех остальных дефолты; «мерседесы» и джипы; многобашенные виллы с бассейнами на средиземноморском, калифорнийском и прочих побережьях; переданные в безраздельную собственность случайным (неслучайным) людям самые прибыльные предприятия отечественной промышленности; многотысячные охранные банды, готовые выполнить любые приказы; завернутые в бетонные саваны фундаментов, сожженные в печах крематориев конкуренты; скупленные на корню прокуратура, милиция, власть и печать — одним словом, все то, что превратило Россию, как утверждали западные газеты, в «черную дыру человечества».
На президентском участке каната наподъемными гирями повисли: смехотворный, неизвестно какими ракетами управляющий «ядерный чемоданчик»; истаивающая под солнцем повсеместного (не прекращающегося) хаоса тень народного трепета перед властью; гаснущая (как лампочка в коммунальном сортире) воля государства, неспособного провести в жизнь ни одного своего решения; сломанная (как посох задержанного в Москве восточного — в халате и в волчьем треухе — бродяги — вертикаль управления; плюющие на стиснутую внутри кремлевских стен центральную власть области и почти что уже независимые национальные республики; нищий разворовываемый бюджет; бессильная армия; облепившие улицы городов, как вши, бомжи; брошенные дети; голодные пенсионеры; сухие груди рожениц; профессора, получающие меньше дворников; школьницы-проститутки; спивающийся озверевший народ; взрывающиеся по неизвестным причинам дома; техногенные, природные и прочие катастрофы — одним словом, все то, что делало Россию, как утверждали западные эксперты и политологи, «ледяным тупиком цивилизации», «страшным, преподанным миру уроком», «результатом, имеющим смысл только в случае его неповторения».
Хозяйский участок каната был составлен из стальных сверхпрочных (порочных) нитей.
Президентский — из гнилой (тоже порочной, но иначе) дратвы, какой по всей стране обматывали перемерзающие теплоцентрали.
Хозяйский конец сворачивался в хищную, как орлиный клюв, петлю, готовую удушить (заклевать) президента.
Президентский (гиревой) тянул президента к центру земли, в небытие, туда, куда канули все предшествующие президенты России.
Неимоверным усилием воли президент удержал свой конец на весу, пожав хрустнувшими кожаными плечами, двинулся в сторону цеха, где уже все было готово к торжественной разливке стали.
Оркестр на красном ковре грянул гимн (тогда еще у страны был гимн с музыкой и словами), однако же огненная сталь не хлынула из печи в желоб. Сгорбленное, как если бы в спину ему дул ветер, плоское, как если бы по нему прошелся асфальтовый каток, существо в асбестовом костюме, как ни пыталось пробить специальным длинным ломом запекшуюся окалину в зеве печи, не могло выпустить на волю огненную реку.
Хозяин, забыв о приличиях, о том, что рядом находится глава государства, разразился непотребным (если, конечно, он когда-то бывает потребным) блатным матом, вырвал из рук немощного рабочего лом. Бедолага, гремя асбестом, рухнул на пол. Прямоугольный с синим экранчиком шлем слетел, и все увидели, что под асбестовым костюмом скрывается… освенцимской худобы длинноволосая женщина.
«В чем дело?» — отодвинув плечом хозяина, президент помог ей подняться, бережно прислонил, как хрупкую (асбестовую?) куклу к стене.
«Какое может быть дело, — с отчаяньем (когда нечего терять, уже и пролетарские цепи потеряны) проговорила женщина, — если он, — кивнула на хозяина, — полгода, гад, зарплату не платит! А когда, — всхлипнула, — мужики захватили контору, сначала газ пустил, а потом… пострелял. Семерых похоронили. Мы писали тебе в Москву. Что ж ты не разобрался? Откуда силы, когда жрать нечего? Моей дочке десять лет, знаешь сколько она весит? Десять килограммов!»
«Чего плетешь, дура? — хмуро спросил хозяин. — Да, стреляли, потому что это был бандитский налет, попытка захвата частной собственности, которая это… по нашей Конституции священна. Есть постановление прокурора, что охрана действововала по закону. А зарплату немного задержали, потому что накрылся банк-оператор на Кайманах. Со следующего месяца будем обслуживаться через Европу, Лихтенштейн, так что никаких не будет задержек. Ну чего, пускать сталь или как?»
Воцарилась долгая пауза.
Все молча смотрели на президента.
«Накормить, дать денег, одним словом помочь, — распорядился Ремир. — Дочку к врачу. Немедленно. Ну, а с тобой, мил человек»… — повернулся к хозяину.
«Это фуфло, пустой базар! На заводе все путем!» — крикнул тот, ища глазами свою охрану.
Та, однако, была далеко.
Все входы в цех контролировались людьми из службы безопасности президента, единственной, как признавали многие, эффективной и способной принимать самостоятельные (а главное, быстрые) решения, структурой в России.
«Куда его?» — решительно шагнул к хозяину Савва, не любивший плестись у событий в хвосте.
Никита, помнится, мысленно посочувствовал брату. Ведь именно этому блатарю Савва намеревался передать в управление государственный пакет акций, то есть сделать его полным и окончательным владельцем завода, за что блатарь обещал Савве решить все его материальные и прочие проблемы на два поколения вперед.
Мгновение назад бывший «всем», но вдруг сделавшийся «никем» блатарь, ловил глазами, как сетью, золотую рыбку Саввиного взгляда, но вместо золотой рыбки словил пиранью, пластавшую сеть в лоскуты.
Савва мотнул головой, и президентские охранники подхватили хозяина под белы руки.
«Куда? — проревел президент с такой яростью, что Никита сразу вспомнил про знаменитый гнев Ахиллеса, от которого волновались воды Эгейского моря и содрогались стены Трои. — Его?» — В лицо президента, словно в мистический (в смысле вместимости) сосуд хлынула многолетняя, не знающая исхода обида народа на ограбивших страну проходимцев, на собственные унижения и нищету, голодную несчастную жизнь, на весь внезапно утвердившийся новый уклад, в котором народу была отведена (и, самое удивительное, что он ее принял) роль бессловесного вымирающего быдла.
Народная обида преобразила лицо президента.
Такое лицо могло бы быть на Страшном Суде у ангела-заступника униженных и оскорбленных, к каковым можно было с уверенностью отнести за малым исключением весь русский народ, точнее его остатки.