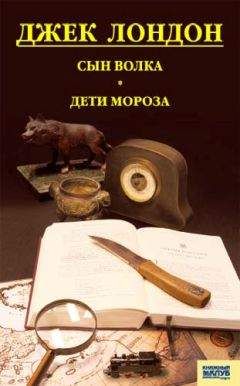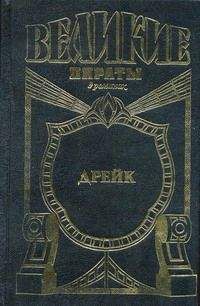Она услыхала: «Пожалуйста, содовой с мороженым» — и в свою очередь спросила: «С каким?» — все еще не глядя на него. Это было ее обыкновение — не обращать внимания на молодых людей. Что-то в них было, чего она не понимала. Ее смущала их манера смотреть на нее. Почему — она сама не знала. Ей не нравились в них грубоватость и неуклюжесть. До сих пор ее воображение еще не было затронуто мужчиной. Те, кого она видела, не привлекали ее и ровно ничего для нее не значили. Короче, вопрос о том, есть ли какой-нибудь смысл в существовании мужчин на земле, привел бы ее в замешательство.
Накладывая мороженое в стакан, она случайно взглянула на Джо, и у нее тотчас же возникло приятное чувство удовлетворения. Он посмотрел на нее, глаза ее опустились, и она отвернулась к прилавку. Но возле сифона, наполнив стакан, она опять захотела взглянуть на посетителя — не больше, чем на мгновение. И в это мгновение она заметила его пристальный взгляд, ищущий ее взгляда, и выражение откровенного любопытства на его лице, заставившее ее опять поспешно отвести глаза.
Ее удивляло, что она встретила такую привлекательность в мужчине. «Миловидный мальчик», подумала она, инстинктивно и наивно пытаясь защититься от подчиняющей ее власти, которую всегда таит подлинная привлекательность. «И, однако, он совсем не миловиден», думала она, ставя перед ним стакан и получая десять центов серебром в уплату. Она в третий раз встретилась с ним глазами. Запас ее слов был ограничен, и она в них не слишком разбиралась. Но энергичная мужественность его юного лица говорила ей, что это определение не подходит.
«В таком случае он должен быть красив», была ее следующая мысль, когда она снова опустила глаза под его взглядом. Но любой человек сколько-нибудь приличной наружности называется красивым, и это выражение ей тоже не понравилось. Как бы то ни было, на него было приятно смотреть и хотелось этого снова и снова, и ее раздражало это желание.
Что же касается Джо, он никогда не встречал никого, похожего на эту девушку за прилавком. С философией природы он был знаком больше, чем она, и мог немедленно же объяснить смысл существования женщин на земле: тем не менее в его мировоззрении женщина отсутствовала. Его воображение было так же не затронуто женщиной, как и ее — мужчиной. Но теперь оно было взволновано. И женщиной была Женевьева. Он никогда не предполагал, что женщина может быть так красива. Он не мог оторвать от нее глаз. И всякий раз, как он смотрел на нее, и их взгляды встречались, он испытывал тягостное смущение. Если б она не опускала так быстро глаз, он вынужден был бы отвернуться.
Когда же, наконец, она медленно подняла глаза и вновь не опустила, потупил глаза не кто иной, как он, и румянец залил его щеки. Она смутилась гораздо меньше и ничем смущения не обнаруживала. И, однако, никогда еще прежде она не чувствовала такого волнения, хотя внешне и оставалась невозмутимой. Джо, наоборот, проявлял явную неловкость и выглядел восхитительно растерянным.
Любви они оба еще не знали, и в данный момент каждый из них сознавал одно только непреодолимое желание смотреть на другого. Оба были возбуждены. Их влек друг к другу властный инстинкт. Он вертел в руках ложку, смущенно краснел над стаканом и томился; она же спокойно разговаривала, опускала глаза и оплетала его своими чарами.
Но нельзя же было целую вечность медлить над стаканом, а другой попросить он не смел. Наконец, оставив ее словно в трансе, он ушел и побрел, как лунатик, вниз по улице.
Весь вечер она мечтала и поняла, что влюблена. У Джо все было иначе. Он знал только одно: ему надо опять увидеть ее лицо. Его мысль не шла дальше; едва ли это даже была мысль — скорее смутное, еще не оформленное желание.
Справиться с этим неотступным желанием он не мог. День за днем оно его мучило, и неотвязно вспоминались кондитерская и девушка за прилавком. Он боролся с этим желанием. Ему было стыдно, и он боялся снова зайти в кондитерскую. Страх его уменьшался, когда он думал: «Я не из тех, кто нравится женщинам». Не один, не два, а двадцать раз он повторял это себе, но ничто не помогало. И среди недели, вечером после работы, он пришел в кондитерскую. Он старался войти беспечно, как будто случайно, но по его походке было ясно видно, каким огромным усилием воли он побеждал свою нерешительность. Он казался застенчивым и неуклюжим больше, чем когда-либо. Женевьева же, напротив, была непринужденней, чем всегда, несмотря на сильную тревогу и волнение. Разговаривать он не мог и, взглянув озабоченно на часы, пробормотал свой заказ, в страшной поспешности покончил с мороженым и ушел.
Она готова была расплакаться от досады. Такая скудная награда за четырехдневное ожидание, да к тому же она еще и любила! Он — славный мальчик, она это знала, но вовсе не нужно было быть так немилосердно торопливым. Джо еще не дошел до угла, как ему захотелось снова быть с ней и смотреть на нее. Он не думал, что это любовь. Любовь? Ведь любовь — это когда молодые люди и девушки гуляют вместе. Что же касается его… Здесь его мысль приняла неожиданное направление, и оказалось — это и есть то самое, что он намерен ей предложить. Ему необходимо видеть ее, смотреть на нее, и разве не лучше всего он сможет достигнуть этого во время прогулок с ней? Вот почему мужчины и девушки гуляют вместе, размышлял он, кстати и конец недели был близок. Раньше он считал, что эти прогулки являлись простой формальностью, обрядом, предваряющим брак. Теперь он проник в их скрытую мудрость, нуждаясь в них сам, и из этого заключил, что влюблен. Оба они думали теперь в одном и том же направлении; поэтому дело могло кончиться только одним, и девять дней удивлялись соседки тому, что Женевьева гуляет с Джо.
Они оба не умели много разговаривать, и период ухаживания затянулся. Характерной чертой Джо являлась активность, у Женевьевы — спокойствие и сдержанность, и только в блеске ее глаз откровенно светилась нежная любовь, которую она застенчиво пыталась скрыть. Слова «дорогой», «дорогая» казались слишком интимными, и они не могли так скоро отважиться на них. Они не злоупотребляли словами любви подобно большинству других влюбленных пар. Долгое время они довольствовались вечерними прогулками. Они садились в парке и в продолжение часа не произносили ни слова, лишь радостно погружаясь в глаза друг друга. При свете звезд блеск их глаз казался смягченным и не смущал их.
Он проявлял рыцарскую предупредительность и внимание к своей даме. Когда они шли по улице, он озабоченно старался сохранить возле нее место с краю тротуара — где-то он слыхал, что этого требует приличие; когда они переходили на другую сторону улицы, он осторожно обходил позади нее и снова занимал свое место. Он носил ее пакеты и однажды, когда собирался дождь, ее зонт. Он никогда не слыхал об обычае посылать возлюбленной цветы и отсылал ей вместо них фрукты. Фрукты — полезная вещь, поесть их приятно. Мысль о цветах не приходила ему в голову до тех пор, пока однажды он не увидел бледную розу в ее волосах. Это были ее волосы, и поэтому присутствие цветка сразу привлекло его внимание. Она выбрала цветок для своих волос, и это особенно вызывало интерес к цветку и заставило его внимательней рассмотреть розу. Он открыл, что роза сама по себе прекрасна. Он был искренне восхищен, но это восхищение в еще большей мире относилось к Женевьеве, и оба они были возбуждены — причиной тому был цветок. С этих пор Джо полюбил цветы. Внимание его к Женевьеве стало изобретательным. Он прислал ей букет фиалок. Идея принадлежала ему и только ему. Никогда не слыхал он, чтобы мужчина дарил женщине цветы. Цветы нужны с декоративной целью, а также во время похорон.
Теперь он почти каждый день дарил цветы Женевьеве — для него эта идея была столь же оригинальна, как и великие человеческие изобретения.
Он трепетал от благоговения к ней, как и она при встрече с ним. Она была сама чистота и невинность, и слишком пылкое поклонение не могло ее осквернить. Она резко отличалась от всех, кого он знал. Была совершенно иная, не такая, как все девушки. Он представлял себе ее созданной совсем не так, как его или чьи бы то ни было сестры. Для него она была больше чем девушка, больше чем женщина. Это была Женевьева — не похожая ни на кого, удивительная и чудесная.
В свою очередь и у нее иллюзий было нисколько не меньше. В мелочах она относилась к нему критически (в то время как его отношение было подлинным обожанием, без тени критики), но в общем отдельные черты забывались, и для нее он являлся изумительным существом, без которого в жизни нет смысла. Ради него она могла бы умереть так же охотно, как и жить. Мечтая о нем, она часто придумывала всякие фантастические положения, в которых она, умирая за него, открывала ему, наконец, всю свою любовь; она была уверена, что в жизни никогда не сможет выразить ее всю.
Любовь их была подобна утренней заре. Чувственности в ней почти не было — чувственность казалась профанацией. Первые проблески физического влечения в их отношениях оставались неосознанными. Единственно, в чем ощущали они непосредственно физическое влечение, властные порывы и чары тела, — это легкое прикосновение пальцев к руке, крепкое, короткое пожатие, изредка скользнувшая ласка губ в поцелуе, щекочущая дрожь ее волос на его щеке, дрожь ее руки, отводящей, еле касаясь, его волосы со лба. Это все они знали, но видели, не умея объяснить почему, призрак греха в этих ласках и сладостных касаниях тела.