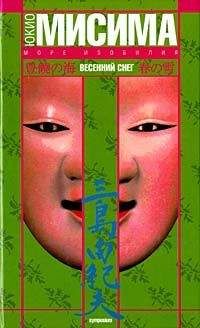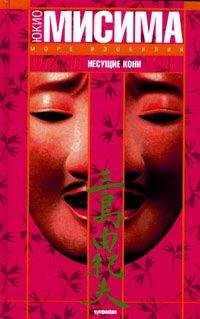Киёаки привык к этой ежегодной церемонии и даже получал от нее удовольствие. Граф нигде не был столь значителен и столь на месте, как там. Теперь видеть его просто мучительно, но Киёаки хотелось взглянуть на то, что осталось от стихов, когда-то поселившихся и в его душе. Он пойдет туда и будет вспоминать Сатоко.
Киёаки уже перестал ощущать себя "колючкой утонченности", впившейся в здоровый палец семейства Мацугаэ. И не потому, что осознал: ему тоже неизбежно предстояло стать одним из его здоровых пальцев. Дух утонченности, которую он прежде лелеял в себе, отлетел, легкой печали — души поэзии — не осталось и следа, вместо этого внутри гулял опустошающий ветер. Киёаки еще никогда не ощущал себя таким, как теперь, далеким от утонченности, даже некрасивым.
Но именно сейчас он и становился по-настоящему красивым. Вот такой без чувств, без эмоций, равнодушный к страданиям, не чувствующий явной боли. Он казался себе чуть ли не прокаженным, что делало его еще неотразимей.
Киёаки потерял привычку смотреться в зеркало, а потому не замечал, что проступившие у него на лице изнурение и меланхолия придают ему черты портрета "Юноша, поглощенный страстью".
Однажды, когда он ужинал дома один, на столе появился хрустальный резной стаканчик, наполненный темно-красной жидкостью. Ему было неохота расспрашивать, и, решив, что это красное вино, он проглотил какую-то густую жидкость. На языке остался странный привкус.
— Что это?
— Свежая кровь черепахи, — ответила служанка. — Мне нельзя было говорить, пока вы не спросите. Повар выловил из пруда и приготовил черепаху, он сказал: "Это придаст молодому господину силы".
Пока Киёаки ждал, когда же эта неприятная, вязкая масса опустится в желудок, он вспомнил, как его в детстве пугали слуги, и опять перед глазами встал отвратительный призрак, высунувший из темного пруда голову и заглядывающий в его комнату. Призрак зарывался в тину, скопившуюся на дне, иногда всплывал на поверхность, раздвигая полупрозрачную воду, коварные водоросли и рассекающие время сны, много лет он пристально следил, как Киёаки растет, а сейчас вдруг это заклятие исчезло, черепаху убили, и, он, не ведая того, выпил ее свежую кровь. Неожиданно что-то оборвалось. Страх где-то в желудке постепенно перерастал в непонятную, необъяснимую живую силу.
Поэтический вечер во дворце проходил в таком порядке: сначала читали стихи придворных кавалеров, потом дам. Только у первого автора прочли полностью тему, дату, затем ранг и фамилию, у следующих авторов тему и дату уже не читали, а, назвав ранг и фамилию, переходили к тексту.
Граф Аякура выполнял почетную роль чтеца-декламатора. Император с императрицей, наследный принц заняли свои места, и раздался высокий, кристально звонкий голос Аякуры. Голос лился свободно, в нем не чувствовалось скрываемой вины, звучала лишь светлая печаль, монотонность чтения напоминала движения священника, шаг за шагом поднимающегося по залитым зимним солнцем каменным ступеням. Этот голос не принадлежал ни мужчине, ни женщине.
Когда голос Аякуры, единственный, наполнял абсолютную тишину дворцовой залы, он отделялся от слов, звучал сам по себе, не имел ничего общего с человеком. Светлая, не ведающая стыда, печальная утонченность вырывалась из горла Аякуры и стелилась по залу как легкая дымка, подернувшая рисунки в старом свитке. Стихи придворных все были прочитаны по одному разу, но стихотворение наследного принца граф повторил дважды, сопроводив словами: "Вот озаренное светом творение, которое мне дозволено прочитать". Стихи, написанные императрицей, он повторил три раза, разделяя строки, сначала он прочитал начальную строфу, а со второй все вместе прочитали хором. Когда читали стихотворение императрицы, придворные и другие участники вечера, даже наследный принц, внимали стоя.
В нынешнем году на поэтическом вечере исполненное благородства стихотворение императрицы было особенно изящно. Киёаки, слушавший его стоя, осторожно бросил взгляд на листки специальной бумаги, которые держал в своих маленьких белых, совсем женских руках Аякура, — бумага была цвета распустившихся лепестков красной сливы. Киёаки был поражен тем, что, несмотря на все пережитые потрясения, в голосе Аякуры не слышно ни малейшей дрожи, не чувствуется скорби отца по удалившейся от мира дочери. Он был по-прежнему красивым, чистым и каким-то беспомощным. И через тысячу лет граф будет петь сладкоголосой птицей.
Поэтический вечер вступил наконец в завершающую фазу. Должно было читаться стихотворение самого императора.
Декламатор почтительно приблизился к священной особе, взял стихи со столика и пять раз пропел строфы.
Голос графа звучал особенно звонко, он завершил чтение словами: "…Великие строки, которые мне было дозволено прочитать".
Киёаки все это время со страхом взирал на лицо императора: на него нахлынули воспоминания о том, как ныне покойный император когда-то гладил его по голове, но более слабый на вид нынешний, слушая, как читают его стихотворение, хранил на своем лице выражение ледяного спокойствия, без малейшего намека на причастность к творению, и Киёаки содрогнулся, словно ощутив, хотя этого не могло быть, скрытый гнев императора, направленный на него, Киёаки. "Ты обманул императора. Ты должен умереть", — внезапная мысль пронзила Киёаки, равнодушного ко всему среди аромата благовоний.
Наступил февраль: потерявший ко всему интерес Киёаки держался в стороне от одноклассников, озабоченных приближающимися выпускными экзаменами. Хонда готов был помочь ему с занятиями, но особенно не докучал, чувствуя, что тот откажется. Хонда хорошо знал, что Киёаки больше всего не терпит назойливости в дружбе.
В это время отец неожиданно предложил Киёаки пойти учиться дальше в Оксфордский колледж. Он был основан в XIII веке, имел давние традиции, по словам отца, туда можно просто попасть по протекции ректора, а для этого достаточно только сдать выпускные экзамены в школе Гакусюин. Маркиз задумался о том, как помочь сыну, заметив, что сын, который вскоре получит пятый ранг при дворе, день ото дня бледнеет и теряет силы. Это предложение заинтересовало Киёаки, но совсем не так, как рассчитывал отец. Киёаки просто решил сделать вид, что доволен.
Когда-то он, как и все, очень хотел попасть в Европу, но теперь сердце его было привязано к одной, самой чудесной точке в Японии, и он, глядя на карту, чувствовал, что не только привольно раскинувшиеся за морем чужие страны, но и сама Япония, похожая на маленькую красную креветку, кажется ему грубой и вульгарной. Его Япония не имеет этих четких контуров, затянута дымкой легкой печали, и она намного синее.
Отец велел повесить на стену в бильярдной большую карту мира. Он собирался дать Киёаки освоиться с новыми масштабами. Но того не трогала холодная плоскость картографического моря: в памяти вставало море той летней ночью в Камакуре, ночное, похожее на огромного черного зверя, теплое, пульсирующее кровью, зовущее, — море, воспоминание о котором теперь отзывалось в душе страданием.
Он никому не жаловался, но у него начались частые головокружения, легкие головные боли. Усиливалась бессонница. Ночью, лежа в постели, он в деталях рисовал себе картины: вот именно завтра придет письмо от Сатоко, она сообщает о времени и месте побега, и он встречает ее где-то на углу маленького, никому не известного городка у жалкого здания тамошнего банка, вот сжимает в объятьях руками, хранящими память о ее теле. Но в этих фантазиях присутствовало почти невесомое ощущение их нереальности, и порой темным пятном проступала наружу холодная действительность. Киёаки обливал слезами подушку и до поздней ночи безнадежно повторял имя Сатоко. И тогда Сатоко неожиданно, как живая, являлась где-то на границе сна и реальности. Скоро его сны нельзя уже было занести в дневник как рассказ или наблюдение. В забытьи сменяли друг друга мольба и отчаяние, явь казалась сном, а сон явью, возникали неясные линии, будто оставленные на берегу волнами, и в зеркале воды, отступающей по гладкому песку, вдруг отразилось лицо Сатоко. Никогда еще оно не было столь прекрасным и столь печальным. И это мерцающее ночной звездой лицо разом исчезло, когда Киёаки потянулся к нему губами.
Днем воспоминания, от которых он хотел спастись, еще прочнее занимали свое место в его душе. Все: и время — утро ли, вечер ли, день или ночь; и природа — небо, деревья, облака, ветер, — твердили ему, что нужно смириться, и он захотел, если уж его так терзают неясные мучения, своими силами добиться определенности — услышать хоть одно слово из уст Сатоко. Пусть не услышать, пусть только взглянуть на ее лицо. Сердце словно обезумело.
Да и слухи в обществе быстро утихли. Постепенно забывался неслыханный скандал, когда с высочайшего разрешения на брак дело шло к помолвке, а потом, прямо перед церемонией, сватовство было расторгнуто; ныне негодование общества перекинулось на взяточничество во флоте.