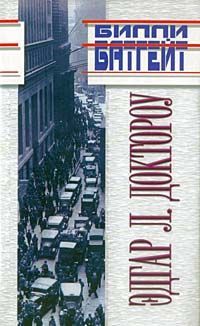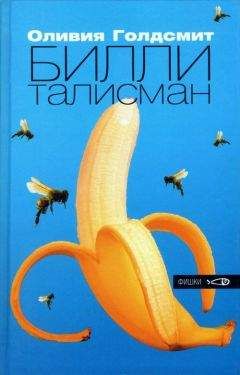Я еще дрожал от страха, когда он стряхнул их руки с себя и сказал:
– Все нормально, ребята! Все нормально.
Голландец рывком поправил воротник рубашки, дернул вниз пиджак и сел на свой стул. Лулу посадил меня бережно на мой. Я чувствовал недомогание. Мистер Берман подвинул мне стакан вина и я отпил немного, держа стекло двумя руками. В ушах звенело, бок пронзала острая боль, каждый раз когда я вдыхал воздух в грудь. Я сел по возможности прямо, так иногда нам само тело велит принять правильную позицию, чтобы хоть немного облегчить боль. Я стал осторожно дышать, стараясь не двигаться.
– Теперь, малыш, слушай! – сказал мистер Шульц, – Это за то, что не сказал мне раньше. Слышал эту суку и промолчал!
Я кашлянул, боль снова пронзила левый бок. Я глотнул еще вина.
– До этого не было случая, – ответил я, солгав ему в лицо. Мне надо было прокашляться, изменить голос, иначе бы он что-нибудь заподозрил. Я хотел звучать обиженно. – Я все время куда-то бегал по поручениям.
– Позволь мне закончить, пожалуйста. Сколько денег осталось от тех десяти тысяч?
Дрожащими руками я достал из кошелька пять тысячедолларовых бумажек и положил их на белый стол.
– Отлично! – сказал он, беря четыре и придвигая одну мне, – Это тебе. За месяц вперед. Отныне твоя зарплата 250 в неделю. И это справедливо. Ты заслужил взбучки, но ты заслужил и зарплаты. – Он оглядел присутствующих. – Я почему-то ни от кого не слышу хоть слова о нашем дорогом собрате, который был настолько любезен, что приехал ко мне один раз за сотни миль.
Все промолчали. Мистер Шульц разлил всем вино и выпил свою порцию смачно крякнув.
– Вот сейчас мне стало лучше! – сказал он, – С утра все как-то не клеилось. Я чувствовал, что чего-то не хватает. И я не знаю, как это… соединиться! Даже не знаю, с чего начинают в таких случаях. Я никогда ни с кем не соединялся, Отто. И никогда никого ни о чем не просил. Я всегда работал только на себя. Работал на износ. И получил я все только потому, что вел себя именно так, а не иначе. Вопреки желаниям других. Ты хочешь, чтобы я присоединился к ним и стал думать об их прибыли? Их, а не моей? Мне наплевать на их дела и их прибыли. Потому что все это – дерьмо. Мне и раньше было наплевать, и сколько там за мной полиции охотится – тоже наплевать. У меня не было информации. Сейчас она у меня есть.
– Слова мальчишки ничего не значат, Артур, – сказал мистер Берман, – Бо частенько заваливался в рестораны. И на скачки. И в казино. Ну и что с того?
Мистер Шульц улыбнулся и покачал головой.
– Мой драгоценный Аббадабба. Числа не существуют в мечтаниях. Человек дает свое слово, а оно оказывается ничего не стоит. Человек работает на меня годы и в ту минуту, когда я поворачиваюсь к нему спиной, он предает меня. Я не знаю, кто подал ему такую идею – предать меня! У кого еще в Нью-Йорке могут быть такие идеи?
Мистер Берман разволновался.
– Артур, он вовсе не дурак, он – бизнесмен. Он сравнивает, он выбирает правильный путь, он ищет наименьшего сопротивления. Вот тебе и вся философия. Ему не нужна была девчонка, чтобы понять или узнать, куда делся Бо. Он оказал тебе уважение своим приездом в Онондагу.
Мистер Шульц отодвинулся от стола. Вынул из кармана четки и начал перебирать их.
– Остался один-единственный вопрос – кто же все-таки заставил Бо изменить мне? Твое соединение, или как там.., Отто – это прекрасно. Теперь я понимаю, что против меня объединился уже целый мир. Человек, который приехал ко мне, пошел со мной в церковь, человек, который целовал меня и называл своим братом. Это – любовь? У них нет любви ко мне, а у меня нет любви к ним. Сицилийский поцелуй смерти, так, Отто?
Так я стал следить за Томасом Дьюи, прокурором, специально назначенным, чтобы покончить с организованной преступностью – будущим районным судьей, губернатором Нью-Йорка и республиканским кандидатом на пост президента Соединенных Штатов. Он жил в особняке на Пятой авеню, окна на Центральный парк, недалеко от отеля «Савой-Плаза». Через неделю я уже прекрасно знал тот район, вышагивая ежеутренне по аллеям, затем переходил улицу, шагал вдоль стены, окружавшей деревья, прячась в тень огромных платанов. Иногда баловался, прыгая по восьмиугольным плитам тротуара, стараясь не наступить на линии. По утрам солнце вставало и приходило на мою улицу со стороны других, соседних, оно медленно заливало светом восток, затем простреливало пространство города. Да, да, я постоянно думал о выстрелах. Они слышались мне повсюду: в выхлопах грузовиков, я видел их в лучах светила, я читал их на разрисованных мелками тротуарах. Все было связано с выстрелами в моем мозгу. Я следил за прокурором, добывая информацию, как его легче убить. По вечерам солнце прыгало в Вест-Сайд, известняковые здания на Пятой авеню поблескивали золотом окон и белизной фасадов. Взгляд мой скользил вверх и я видел, как служанки или задергивают шторы от прямых лучей, или опускают жалюзи.
В те дни ближе, чем мистер Шульц, не было у меня человека, я по сути был единственным, кто действовал с ним заодно не только внешне, но и внутренне. Его самый главный мыслитель, мистер Берман, обнажил свои истинные мысли, его два верных сторожевых пса засомневались, в его сердце остался я один. Последним оплотом, последней надеждой. Так я себя чувствовал и должен признаться, что мне это льстило – быть с ним так глубоко заодно! Он ударил меня и не раз, но я любил его, простил его, я хотел, чтобы и он любил меня, и я знал, что он может уйти из моей души сам, никого не спрося. Я не простил Лулу за сломанный нос, вспоминая про двадцать семь центов, которые мистер Берман совершенно спокойно забрал у меня, проделав какой-то хитрый математический трюк еще в том офисе на 149-ой улице, когда я только хотел быть в организации, ох, мистер Берман, мой ментор, щедро одаривший меня богатством своего незаурядного ума, заботившийся обо мне, как никто другой из банды, я не простил и его. Да, за те жалкие мальчишеские 27 центов.
Чтобы следить незаметно, надо по возможности слиться с местностью, где происходит слежка. Сначала я купил доску с роликами, надел мои дорогие штаны и рубаху для поло, но через пару дней понял, что это не то. Затем – щенка из магазинчика неподалеку. Все бы хорошо, но по утрам многие выгуливали своих собак и мне приходилось останавливаться, выслушивать комплименты от дружелюбных любителей животных про своего песика, в то время как хозяйские твари мерзко обнюхивали, что у моего щенка есть под хвостом. Времени на слежку оставалось маловато, я сдал щенка обратно в магазин. Пришлось взять напрокат детскую коляску моей мамы и попытаться изобразить из себя старшего братика, прогуливающего младшего, только что родившегося. Так я нашел правильный и соответствующий местности образ и камуфляж. У Арнольда Мусорщика я приобрел по сходной цене куклу, цветастый платок, вместо одеяла, мелкую сетку, такие я видел у некоторых гувернанток, ими они закрывали лица малюток от мух и любопытных взглядов и вскоре даже самая любопытная старая стерва, засунувшая свой нос в коляску, не смогла бы сказать, кто в действительности там лежит – кукла или настоящий ребенок. Иногда я гулял, толкая перед собой коляску, иногда сидел на скамейке, прямо перед домом мистера Дьюи и покачивал сооружение, нимало не заботясь о сломанных пружинах. Так я узнал, что рано утром на этой улице очень мало людей, здесь никогда ничего не происходит и что без сомнений, раннее утро – это то самое время, когда появление мистера Дьюи на улице может поставить точку в его существовании.
Моя мама почему-то воспылала нежностью к кукле, она решила, что я присоединился к ее вымышленному миру. Мама перерыла весь свой шкаф, чтобы найти мои старые детские вещи и одеть куклу по полной выкладке. Так ей пришлись впору желтые штаники и чепец, которые я носил пятнадцать лет назад. Я смотрел, как она возится вокруг куклы и думал о невинности в окружении смертей, как взволнованный пророк, я любил ее за ее сумасшествие. Мама выбрала уход в другое сознание, чтобы избежать страданий за реальные убийства, и если у меня еще оставались какие-то сомнения по поводу правильности работы, выполняемой мной, то стоило только подумать о ней, и я зависал на тонкой ниточке моих ничем не доказанных, но ощутимых и реальных для меня, мыслей о том, что если я верю и верю до конца в свою счастливую судьбу, то она не подведет.
Фактически, коль скоро все зависело только от меня, от информации исходящей от меня, как от единственного источника, то я решил, что не позволю им пролить кровь. Я понимаю, что мои слова звучат самоуверенно, и поэтому извиняюсь перед родственниками мистера Дьюи, перед его наследниками и друзьями за отвращение, которое они могут испытать, но зачем мне врать – все, что здесь написано, это дикие и отчаянные попытки детства, брошенного в жестокость взрослого мира. Таким признаниям можно верить.