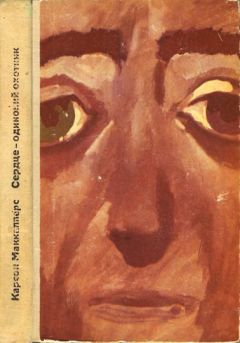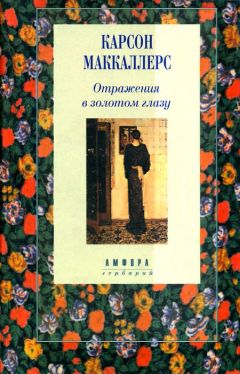Интересно, спит ли у себя в комнате мистер Сингер? Может, потолок скрипит потому, что он там тихо ходит, пьет холодный апельсиновый сок и рассматривает шахматные фигурки, расставленные на доске? Чувствовал ли он когда-нибудь такой страх, как она? Нет. Он ведь никогда не делал ничего дурного. Он никогда не делал ничего дурного, и сердце его было по ночам спокойно. Но, несмотря на это, он бы все понял.
Ах, если бы она могла ему рассказать, ей стало бы легче. Она придумывала, как начнет свой рассказ. Мистер Сингер, у меня есть одна знакомая девушка, ей столько же лет, сколько мне, я не знаю, мистер Сингер, понимаете ли вы такие вещи, а, мистер Сингер? Мистер Сингер! Она снова и снова повторяла его имя. Она любила его больше, чем своих родных, даже больше, чем Джорджа или папу. Это была совсем другая любовь. Непохожая на все, что она до сих пор чувствовала.
По утрам они с Джорджем вместе одевались и в это время разговаривали. Иногда ей очень хотелось дружить с Джорджем. Он сильно вырос, осунулся и побледнел. Его мягкие рыжеватые волосы свисали космами на кончики маленьких ушей. Зоркие глаза всегда были прищурены, отчего лицо казалось настороженным. У него резались зубы, но они были такие же голубые и редкие, как и молочные. Челюсть у него бывала свернута на сторону: он любил щупать языком ноющие новые зубы.
— Слушай, Джордж, — спрашивала она. — Ты меня любишь?
— Спрашиваешь. Конечно, люблю.
Разговор происходил жарким солнечным утром в последнюю неделю перед каникулами. Джордж был уже одет и, лежа на полу, готовил арифметику. Его маленькие грязные пальцы крепко сжимали карандаш, и он без конца ломал грифель. Когда он кончил, она взяла его за плечи и заглянула ему в глаза.
— Сильно? Я спрашиваю, очень сильно?
— Пусти. Конечно же, люблю. Ты мне сестра?
— Ну да. Ну а если я, например, не была бы твоя сестра? Ты бы меня любил?
Джордж от нее даже попятился. У него не осталось чистых рубашек, и он надел грязный пуловер. Запястья у него были узкие, в голубых прожилках. Рукава пуловера вытянулись и обвисли; руки от этого казались очень маленькими.
— Если бы ты не была моей сестрой, откуда бы я тебя знал? А раз так, как бы я мог тебя любить?
— Но если бы ты меня знал и я не была бы твоей сестрой?
— Да откуда бы я тогда тебя знал? А? Ну докажи!
— Ну представь себе. Вообрази, что знал бы.
— Наверно, ты бы мне в общем нравилась. Но ты все равно не можешь доказать…
— Доказать! Заладил! «Докажи» и еще — «это не фокус». Что тебе ни скажешь, у тебя «это не фокус» или «докажи». Терпеть тебя не могу, Джордж Келли! Просто ненавижу.
— Ладно. Тогда и я тебя тоже не люблю.
Он зачем-то полез под кровать.
— Чего тебе там надо? Оставь-ка лучше мои вещи в покое. Если я увижу, что ты копаешься в моей коробке, я тебе голову расшибу об стенку. Ей-богу, правда! Все мозги вылетят!
Джордж выполз из-под кровати, в руках у него был учебник по правописанию. Он сунул грязную ручонку в дырку матраца — туда он прятал свои шарики. Этого ребенка ничем не проймешь! Он не спеша отобрал три коричневых агата, чтобы взять их с собой в школу.
— Иди ты на фиг, Мик, — ответил он.
Джордж был слишком маленький и нечуткий. Глупо было его любить. Он еще меньше во всем разбирался, чем она сама.
Занятия в школе кончились, и она сдала все: одни предметы на «отлично», а другие едва вытянула. Дни стояли жаркие и длинные. Наконец-то она могла как следует взяться за музыку. Она начала записывать сочинение для скрипки и фортепьяно. Писала песни. Музыка всегда была у нее в голове. Она слушала радио у мистера Сингера и бродила по дому, повторяя в уме программы, которые передавали.
— Что творится с Мик? — спрашивала Порция. — Кошка, что ли, язык откусила? Ходит и молчит, будто воды в рот набрала. И даже не так много ест, как раньше. Взрослая барышня, да и только.
Казалось, что она к чему-то готовится, а к чему — сама не знает. Солнце посылало на улицы жгучие, добела раскаленные лучи. Целый день она либо возилась со своей музыкой, либо играла с детьми… И готовилась. Иногда она вдруг нервно озиралась, на нее нападал этот самый страх. Но в конце июня произошло настолько важное событие, что в ее жизни все переменилось.
Под вечер вся семья сидела на веранде. В сумерках очертания предметов становились мягкими и расплывчатыми. Дело приближалось к ужину, и из открытой двери несло капустой. Все были в сборе, за исключением Хейзел, которая еще не вернулась с работы, и Этты — та все болела и не поднималась с кровати. Папа раскачивался на качалке, положив ноги в одних носках на перила. Билл сидел на ступеньках с мальчишками. Мама полулежала в гамаке, обмахиваясь газетой. На другой стороне улицы недавно поселившаяся по соседству девочка каталась на одном роликовом коньке. Лампы в домах только зажигались, и где-то вдали кого-то окликал мужской голос.
Тут пришла домой Хейзел. Ее высокие каблуки зацокали по ступенькам. Она лениво прислонилась к перилам и поправила косы на затылке; в полутьме ее толстые, мягкие руки казались очень белыми.
— Какая жалость, что Этта не может работать, — сказала она. — Я сегодня разузнала насчет того места…
— Какого места? — взволновался папа. — А я не подойду? Или там требуется девушка?
— Девушка. Продавщица у Вулворта на той неделе выходит замуж.
— Это в магазине стандартных цен? — спросила Мик.
— Тебя это интересует?
Вопрос застал ее врасплох. Она-то просто вспомнила о мешочке леденцов, купленном там вчера. Ее вдруг обдало жаром. Смахнув со лба волосы, она стала пересчитывать первые звезды.
Папа швырнул окурок на тротуар.
— Нет; — сказал он. — Мы бы не хотели, чтобы Мик в ее годы взваливала на себя такую тяготу. Пусть наберется силенок. А то ведь вон как вымахала.
— Я с тобой согласна, — сказала Хейзел. — По-моему, Мик еще рано каждый день ходить на работу. Я тоже считаю, что этого не стоит делать.
Билл спустил Ральфа с колен на ступеньку и сердито зашаркал подошвами.
— Нельзя начинать работать хотя бы до шестнадцати лет. Мик надо дать еще года два, пусть кончит профессиональное, — если мы сдюжим…
— Даже если придется бросить дом и переехать в фабричный поселок, — сказала мама. — Я хочу, чтобы Мик еще побыла дома.
На какую-то секунду Мик испугалась, что на нее насядут и заставят пойти работать. Тогда бы она пригрозила, что убежит из дому. Но то, как близкие к этому отнеслись, ее растрогало. Вот здорово! Как они горячо говорили о ней, с какой добротой! Ей даже стало стыдно, что она поначалу так испугалась. Она вдруг почувствовала такой прилив любви к родным, что у нее сжалось горло.
— А сколько там платят? — спросила она.
— Десять долларов.
— Десять долларов в неделю?
— Конечно, — ответила Хейзел. — А ты думала — в месяц?
— Даже Порция зарабатывает не больше.
— Ну, то негры… — заметила Хейзел.
Мик потерла макушку кулаком.
— Это большие деньги. Уйма.
— Да, такими не пробросаешься, — сказал Билл. — Ведь я столько же зарабатываю.
Во рту у Мик пересохло. Она поводила языком, чтобы смочить слюной небо.
На десять долларов в неделю можно съесть чуть не пятнадцать жареных цыплят. Купить пять пар туфель или пять платьев. Или сделать столько же взносов за радио. Она подумала о пианино, но не решилась сказать об этом вслух.
— Да, мы тогда могли бы свести концы с концами, — сказала мама. — И все же я предпочитаю еще подержать Мик дома. А вот когда Этта…
— Погодите! — Мик обдало жаром, она вдруг вошла в азарт. — Я хочу поступить на эту работу. Я справлюсь. Знаю, что справлюсь.
— Нет, вы только послушайте эту девчонку, — сказал Билл.
Папа поковырял в зубах и спустил с перил ноги.
— Давайте без спешки. Пусть Мик хорошенько это обдумает. А мы как-нибудь обойдемся и без ее заработка. Я хочу на шестьдесят процентов увеличить починку часов, как только…
— Да, вот еще что я забыла, — сказала Хейзел. — Там каждый год на рождество дают премию.
Мик нахмурилась.
— Ну, на рождество я уже работать не буду. Пойду в школу. Поработаю во время каникул, а потом опять пойду в школу.
— Ну конечно! — быстро согласилась Хейзел.
— Завтра я схожу с тобой и, если возьмут, наймусь на работу.
Казалось, у всей семьи с души свалился камень. На темной веранде все разом принялись смеяться и болтать. Папа показал Джорджу фокус со спичкой и носовым платком. Потом дал мальчишке полдоллара, чтобы тот сбегал в угловую лавку и купил к ужину кока-колы. В прихожей еще сильнее запахло капустой и свиными отбивными. Порция позвала к столу. Жильцы уже их ждали. Мик сегодня тоже ужинала в столовой. Капустные листья выглядели желтыми и дряблыми у нее на тарелке — есть она не могла. Потянувшись за хлебом, она опрокинула графин с холодным чаем на скатерть.