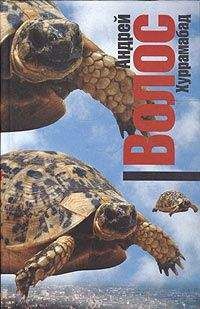Он нагнулся и осторожно взялся за стебель, покрытый лакироваными шипами. Вон какая вымахала… молодец. Стебель длинный, ровный. Красавица. Щелкнул секатором и разогнулся, держа розу в левой руке. Поднес к лицу. Маликаи Ачам источала аромат. Она пахла нежно, как… нет, не пахла: благоухала словно… словно что? с чем сравнить этот запах?
— А-а-а-а… — выдохнул Рахматулло. — Господи.
Зачем она такая красивая? Непонятно. Ну, допустим, пахнет — это ясно: чтобы пчела могла найти цветок. А зачем красота? Пчеле-то, должно быть, все равно, откуда брать нектар. Им вон на фанерку сахара насыпать, водой брызнуть — так со всей округи слетятся. С фанерки им еще лучше. Значит, даже если бы роза была фанеркой, они бы все равно к ней полетели. А зачем тогда роза такая красивая? Дедушка Назри говорил, что Бог создал часть вещей, чтобы они печалили человека, а часть — чтобы радовали. Может быть, поэтому? Но разве роза радует? Да, она радует, конечно, но одновременно и печалит. Потому что она прекрасна. Она так прекрасна, что, наверное, бессмертна. Да, да… а как иначе? Если нет, то почему она кажется такой настоящей?.. Вот иногда думаешь: разве все это — жизнь? Нет же, это просто сон… Все пройдет — и страх, и смерть, и радость, и беда, и голод, и сытость, и нищета, и деньги, и сила, и немощь, — а роза будет цвести. Разве может коснуться ее страх или смерть? Нет, роза будет так же прекрасна. И печальна. А красота ее — так же непостижима… Вот и сжимается, плачет сердце от этого великолепия: никогда, никогда не достичь красоты!..
Он осторожно положил срезанный стебель на соседний куст и потянулся ко второму. Щелк!
— Господи.
Нужно взять у Хуршеда старый кумган и налить воды. Он наберется смелости, подойдет к хозяину и скажет: Карим-ака, кажется, у вас сегодня тяжелые мысли. Вот вам розы, пусть они радуют ваше сердце. Жизнь так тяжела, Карим-ака. Это Маликаи Ачам, Карим-ака, сирийский сорт. Вы с Орифом будуете обедать и смотреть на розы. Не браните меня, хозяин.
Щелк!
6
Потому что все стоит денег, и даже… о чем это он? Ах, да, альчики.
Сам, грешник, в свое время немало сил и времени уделил игре: поражала близость судьбы, непреклонность ее решений: тебе сдают еще одну карту, и если это карта — десятка, ты станешь богаче и счастливей, а если нет — бедней и несчастней. Вот она уже в руке, и можно потянуть пару секунд, как будто за пару секунд что-то изменится — вызреет она, что ли, поменяет, что ли, масть; еще остается время суеверно поглаживать пальцами засаленную рубашку, словно от этих поглаживаний девятка превратится в даму, а если надо, то и в туза; но только секунду или две, три от силы: судьба не ждет.
Ну, хорошо, карты — ладно. Но альчики! Ох уж эти бараньи кости — альчики!
У каждого три. Каждый долго трясет их в сомкнутых ладонях, подносит ладони ко рту, шепчет колдовские глупости, заповеданные отцом или дедом, братом или шурином — неважно: такими же, должно быть, одинаково пропащими людьми. Бросают по очереди, непременно выкрикнув ничего не значащее слово «гаркам!». Каждый при этом производит те ужимки и жесты, которые должны открыть перед ним ворота счастья: один привстает, другой мечет из-за плеча, третий бледнеет и не может сдержать стона. Все, свершилось! Если падает горбом вверх — говорят: ослом упала, горбом вниз — конем. Выпало тебе три коня или три осла — кричи, плачь, смейся, снимай весь куш. Выпало у другого — куша нет, плакали твои денежки. Если ни у кого — добавляй на кон и снова кидай. Время идет быстро: день-ночь, день-ночь… бывает, и днем ни у кого трех ослов, и ночью — тоже. На кону — состояние, в голове — звон, в ушах — гул. Шану не курят — после нее тянет в сон; вместо этого немного ханки — хватит еще на час, на два. День-ночь, день-ночь… На кону — вороха денег, расписки… перстни, золото… Но в конце концов кому-то везет — выпали три коня! Ах, как жаль, что не тебе!.. Если больше нет ничего — можешь трижды сыграть в долг. После третьего раза — конец. Иди за деньгами, другого пути нет и не будет. Правда, может, и смилостивится кто-нибудь: ладно, где тебе взять сразу триста косых… я ж не зверь, братан, чего ты! Давай по-другому. Пойди к Мумину… знаешь Мумина-торговца? Принесешь его башку — и все, братан, базара нет… А то еще, бывает, самые отчаянные играют на зубы. Зуб по-разному ценится, зависит от кона. Когда кон небольшой, может в тысячу зеленых пойти, а если серьезный — тогда и в двадцать. Кинули. Гаркам! Проиграл. Вот плоскогубцы, бери, ломай проигранный зуб — он теперь не твой, — кидай на кон… Дальше играешь? Гаркам!.. Опять проиграл?.. Ох, игра! Три вагона риса? Машина? Вторая? Дом? Ничего: пришла третья ночь — отыграл все назад, кроме зубов, конечно… да это ничего, теперь не золотые — алмазные себе вставишь!.. Вот какая игра! Ну не глупость ли? Разве это игра — кидать гнилые кости? Разве сто тысяч — выигрыш?!
Толковать с ним об этом было бесполезно: или удивленно похохатывал — мол, дядя Карим, на какую ерунду мы время тратим, да я и не играю почти; или морщился, стараясь перевести разговор на другое. А сам — как война утихла — года за два, за три прославился лихостью в узких кругах бросальщиков сих поганых костей; да в Хуррамабаде какая игра? — мало! не раз и не два таскался тайком по этому делу в Иран: есть там такие игорные дома с гостиницами для самых сумасшедших. Неделями можно на улицу не выходить, знай себе кричи гаркам. Точнее не доносили, но и так было известно: сотни тысяч на кону. Выигрывал, проигрывал, опять выигрывал… круговерть.
И вот однажды — ба-бах! — среди ясного неба. Ждал, ждал Карим беды, знал, что придет. Дождался. Примчался Гафур Мясник, рассказывает: ваш племянник с какими-то людьми засел в доме Усмона Рахимова, Усмон с ними — они его держат, а ребята Усмона, стало быть, готовятся к штурму, хозяина отбивать, — так что делать будем? Карим минуту сидел молча, чувствуя, как клокочет гнев под сердцем, как пламя охватывает мозг… потом сказал, что делать — гнать в казармы, поднимать спецназ, ребят Усмона к дому не пускать, — и сам поехал разбираться. К тому времени перестрелка уже началась, и началась довольно неудачно: пуля отщепила кусок деревянного карниза, вонзившийся Орифу в щеку. Через пять минут все было прекращено, вышел Ориф, вышел и Усмон, недовольно встряхиваясь и с ненавистью глядя на Орифа. Тот, ухмыляясь, смахивал струящуюся по щеке кровь, пока кто-то из его головорезов не протянул кусок марли. Усмон сказал Кариму несколько разумных слов, тут же все прояснилось, и было решено, что ребятам Усмона, как и подтянувшемуся к тому времени взводу из батальона Орифа, делать здесь совершенно нечего.
— Ты дурак?! — кричал Карим Бухоро. Он уже спалил свою ярость в себе и теперь говорил свободно, не страшась собственного гнева. — Доигрался? Я для того тебя вырастил, чтобы тебе разнесли башку за твои проигрыши? Хоро-о-о-ош! Новым шрамом будешь перед девками хвастать! Вот, смотрите, какой я смелый! Лезу под пули ради чужих денег! А если бы в лоб эта пуля угодила? Я для чего тебя растил? Чтобы ты командовал спецназом?! Чтобы рэкетиром подрабатывал?! У тебя нет дела? У тебя в руках может быть власть, кретин! Что в мире дороже власти? А ты вышибаешь чужие бабки из Усмона?! Да Усмон умней тебя в сорок раз! Уж если Усмон кому-то что-то не отдает — значит, так тому и быть. Тебя подставили, ты хоть это-то понимаешь?.. Ты почему ко мне не пришел? Почему не сказал, что должен деньги? Я тебе когда-нибудь в чем-нибудь отказал? Может быть, я говорил тебе: нет, Ориф, я бедный человек, не рассчитывай, что я дам тебе денег? Может быть, я хоть раз сказал: нет, Ориф, ты сам запутался, сам и выпутывайся, мои деньги не для того, чтобы кидать их на ветер по твоей глупости? Было такое? Говори — было?
Замолчал, тяжело дыша. Ориф презрительно кривил губы. Ноздри раздувались. Ишь!.. Ах, болван!.. пацан!.. тридцать два года дураку!.. а у него еще и молоко на губах не обсохло!..
— Ладно, — сказал Карим, садясь. — Не стоит нам в таком тоне… мы родные, Ориф. Мы не должны ссориться.
Ориф угрюмо молчал, глядя в пол. Середина марлевого тампона уже промокла.
Карим потянулся к колокольчику.
— Пошли-ка машину за нашим табибом, Музафар… Скажи — может быть, щеку тут одному деятелю зашить придется, пусть инструменты захватит. И быстро, быстро!
— Власть, власть… — буркнул Ориф. — Кой черт толку в этой власти? Власть — чтобы деньги были.
Карим вздохнул.
— Ты не прав, сынок, — сказал он. — Конечно же, деньги лежат рядом с властью. И все же деньги — это не власть. Сначала деньги нужны, чтобы была власть. Потом власть дает кое-какие деньги. Но главный смысл власти — в самой власти, и ни в чем больше. Тебе нужно думать об этом. Я стар и…
Ориф расхохотался.
Это было так неожиданно, что первые несколько секунд Карим не знал, чем ответить.
— Стар! — повторял племянник, досмеиваясь. — Ну, вы скажете, дядя! — Он поднял взгляд вовсе не смеющихся, а холодных и злых глаз. — Старость? Вы хотите сказать — бессилие старости? Ого-го! Мне бы в мои годы вашу старость! Вы же все свое держите — не вырвать! Какая старость? Вы шагу мне ступить не даете! Уж я не говорю о слежке — ладно, пускай. Но эти ваши бесконечные требования — давай дело, давай дело, давай дело, тебе нужно заниматься делом, я тебя вырастил для нашего дела!.. А как только перестаю послушно выполнять ваши указания, как только я хочу сделать шаг в сторону вашего дела — свой собственный шаг, такой, какой мне самому видится нужным, — так вам это сразу поперек! Не спеши, Ориф! Не торопись! Остынь! Посиди! Лучше пойди и сделай то, что я тебе скажу, Ориф!.. Вот всегдашние слова! Вы на самом-то деле не хотите, чтобы я делал дело. Потому что в этом случае часть дела, которая переходит ко мне, уходит из ваших рук. А вам это — нож острый! Вы хотите, чтобы все было в ваших руках! Все! От начала до конца! Как говорится, гори все синим пламенем, лишь бы мой котел кипел! Вы сами только что сказали: смысл власти — в самой власти. Что вы, дядя! Я ваше дело смогу получить, только когда вы умрете, уважаемый! Да, да: в наследство, не раньше!..