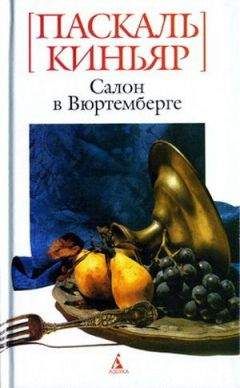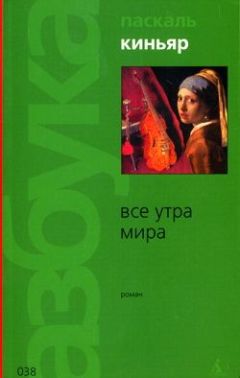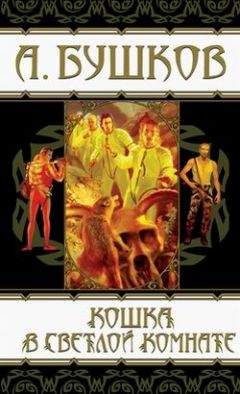Жанна вернулась в комнату, встала передо мной.
«Я хочу спросить напрямую, Карл. Что, если нам жить вместе?»
Я провел у нее всю ночь, а потом мы прожили вместе – столько, сколько позволила жизнь.
Жанна просто повернула ко мне голову. И взглянула на меня. Я встал. Подошел к ней. Она потянулась ко мне. Я приник губами к ее губам и вздрогнул. Она привлекла меня к себе, и я почувствовал жар ее грудей и биение ее сердца. Любовь приходит только один раз. Но в тот единственный раз, когда любишь, ты этого не знаешь и потому впервые открываешь ее для себя. Этот единственный раз случается в самом начале жизни, в неумелых любовных потугах. И если этот единственный раз оказывается несчастливым, то и все последующие также обречены на несчастье. Остается лишь сладострастие – хотя бы частичное спасение от этой беды.
Тело Жанны, несмотря на возраст – она была моей ровесницей, – нервное, сухощавое, отличалось жадной, неуемной чувственностью. В 1972 году я давал концерт в Дорчестерском аббатстве, где жили семеро плешивых монахов и восемнадцать с выбритыми тонзурами. В этом аббатстве есть знаменитое надгробие рыцаря Холкомба, погибшего в Третьем крестовом походе: лежащая статуя изогнулась в попытке выхватить меч из ножен. Вот так же ее тело судорожно изгибалось в апофеозе желания.
Я провел много недель в состоянии блаженства и благости, опьянения и ясного, безмятежного счастья, которых так давно не испытывал. Я привязался к этой старой квартире на улице Марше-Сент-Оноре, даже к самому этому кварталу. Нелепое искусственное пламя в гостиной, пляшущее на «раскаленных углях» и – розовыми бликами – на ее теле, совершенно не раздражало меня. Лица женщин Кранаха, Ван дер Вейдена больше не вызывали желания искать сходство с ее лицом – просто напоминали о цвете. Возраст, может быть, и отметил увяданием ее кожу, коснулся шеи и груди, но зато выявил и как бы усилил легкий розовый флер, свойственный тонкому, почти прозрачному фарфору, – впрочем, может быть, я всегда ошибочно приписывал женским телам чувственность, которой они на самом деле не обладали, неудержимые пылкость и бесстыдство, которые в действительности оборачивались пуританской строгостью. «Розовый цвет, – казалось, говорило это худое тело с выступающими ребрами, когда она, обнаженная, шла ко мне в гостиной, – розовый цвет служит мне бельем!» А я вспоминал розовый салон былых лет в Сен-Жермен-ан-Лэ, и мне становилось как-то не по себе.
Однажды вечером Жанна решила во что бы то ни стало вытащить меня в церковь Сен-Луи-ан-Иль, на спектакль по Рембо, где один из ее друзей, Амьен, должен был сопровождать игрой на скрипке чтение стихов, вернее, заполнять паузы между ними. Странно, – Амьен вовсе не выглядел таким уж неприкаянным. Люди – все без исключения – вообще непостижимые существа. Впоследствии мне довелось увидеть репродукции картин Вермера Делфтского, служившие рекламой камамбера. Жанна любила Рембо. В церкви было отчаянно холодно. Стоял конец сентября. Поэтому никому и в голову не пришло хоть слегка нагреть помещение. Мы заняли свои места – узкие стулья с жесткими соломенными сиденьями – в мертвенно-бледном свете, рядом с министром культуры. Где-то впереди Амьен играл сарабанду Баха. На возвышении, которое служило сценой – и весьма некстати скрипело, – шевельнулась фигура, кажется женская. Я с трудом сдержал рвущийся из горла хохот. Фигура, облаченная во что-то вроде мантии оксфордского профессора, выпрямилась и начала жестикулировать с патетической медлительностью. В церкви наступила тишина. Луч света, направленный на чтицу, мало-помалу высветил ее целиком. Голос – какой-то надтреснутый – звучал хрипло и напыщенно. И вдруг мне стало нехорошо. Лоб и все тело покрылись жаркой испариной, хотя в церкви стоял собачий холод. В этой все возрастающей дурноте мне чудилось что-то очень близкое, родное – и навсегда утраченное, что-то очень далекое – и все-таки шептавшее: «Тепло, еще теплее, жарко!» – как в детской игре «найди предмет». Внезапно голос зазвучал более естественно и жалобно, а актриса в профессорской мантии знакомым движением прикусила верхнюю губу: это была Изабель – Изабель, с ее покрасневшим носом, видение из прошлого. Ее голос то и дело прерывался. Лицо стало одутловатым, но тело было по-прежнему длинным, стройным и напряженно-прямым; я схватил Жанну за руку и прошептал, едва шевеля пересохшими губами:
«Мне плохо… очень плохо…»
Свет погас, Амьен снова заиграл на скрипке.
«Мне плохо. Я сейчас потеряю сознание», – бормотал я, пытаясь встать, пытаясь выбраться В проход. Я встал – и рухнул наземь.
Я почувствовал легкие шлепки по лицу и открыл глаза: Жанна хлопала меня по щекам. Надо мной склонилась Изабель. «Изабель!» – прошептал я и сделал попытку подняться. Амьен придерживал меня за плечи. «Он играет на виоле да гамба!» – объяснял он министру, который стоял рядом с сочувственной миной. Ибель прищурилась, улыбнулась мне, исчезла из виду. Уже потом я узнал, что, падая, опрокинул целый ряд стульев, скрепленных деревянным брусом, и оборвал провод микрофона. Из-за короткого замыкания спектакль пришлось остановить, Амьен и Изабель – чтица, светская дама в профессорской мантии – поспешили ко мне на помощь.
После этого мы увиделись не сразу: я уехал в долгое, двухмесячное концертное турне. И только по возвращении, в январе 1979 года, мы с ней встретились при посредничестве Амьена. Свидание было назначено в кафе «Драгун» ранним утром.
Я толкнул дверь, вошел, и меня тут же замутило от запаха плавленого грюйера. В дальнем углу, напротив двери, я увидел фигуру в бежевом английском плаще, которая делала мне знаки. Это был старый мужской «Burberry's» из непромокаемой ткани, с подвернутыми рукавами. У меня замерло, почти остановилось сердце. Как все странно! Она сидела в сорока – пятидесяти шагах от меня, а я с трудом узнавал ее; но меня потрясла даже не эта способность – или неспособность – узнавания, легкого или затрудненного, а другое: нахлынувшее ощущение невыразимой близости, взгляд, который был мне дороже всего на свете, а главное, это притяжение, это родство, это тело, а вернее, лицо, которое манило к себе, привораживало, и это было такое мощное, такое властное чувство, что мне пришлось, добираясь к ней через зал, подавить в себе сумасшедшее желание бежать прочь со всех ног.
Она сидела на банкетке, держа стакан виски в обеих руках – сомкнув пальцы обеих рук на стакане. Я сел напротив. Взглянул на нее. Она была бледна. Мы оба не произнесли ни слова. И заговорили только тогда, когда снова начали слышать неразборчивый гул голосов, наполнявший кафе. О том, чем она занималась, что с ней стало, о том, чем я занимался и что стало со мной.
Она бледнела все сильнее и сильнее. Выпила три порции виски подряд.
«Пойдем отсюда!» – вдруг предложила она.
Мы встали. Она торопливо вышла, а я задержался, чтобы расплатиться за кофе, три виски и свой заказ – кусок ананасного торта: сам не знаю, как у меня хватило присутствия духа углядеть на стойке, при входе в зал, это фирменное, с виду очень соблазнительное изделие, которое я даже не успел попробовать.
«А ты ужасно постарел! – сказала она, когда мы шли по бульвару Сен-Жермен. – Волосы С проседью, морщины, лысина, – совсем никудышный стал!»
Казалось, ей приятно говорить о моем старении. Стоял январь – теплый, со всеми признаками осени. Слабое солнце едва светило. Я предложил ей посидеть в маленьком унылом скверике па углу улицы Аббатства.
«Вот уж не думала, что когда-нибудь опять унижу тебя, – сказала она, – и это не делало меня счастливее!»
Я взял ее под руку, и мы перешли улицу. Дойдя до сквера, мы сели на скамью.
«Я сейчас в обморок упаду, – сказала она. – Меня в жар бросает».
На улице было градусов десять тепла.
«А ну-ка пойдем», – сказал я.
И потащил ее в церковь Сен-Жермен. Я уже давно определил, путем экспериментов на самом себе, что надгробия меровингских королей автоматически снижают кровяное давление на два-три пункта.
В церкви было холодно; я совсем забыл, что она достает мне до плеча; она шла понурившись; потом, протянув руку, потрепала меня по волосам.
«Карл, ты совсем старик», – повторила она с откровенностью, которая, честно говоря, не слишком меня порадовала.
Я был сильно взволнован; в нефе стоял запах пыли и Бога – иными словами, пресный запах ладана. В ее жестах угадывалось желание. Эти пальцы, эти глаза все еще хотели меня, а может быть, это я все еще хотел их, как бы сильно они ни изменились, какими бы чужими ни выглядели.
«А ты тоже постарела, – со смехом шепнул я ей на ухо. – Совсем развалиной стала…»
И притянул ее к себе.
«Негодяй!» – воскликнула она.
«Потаскушка!» – парировал я.
И мы рассмеялись. Мы смеялись, как в былые годы. И долго обнимались в полумраке. Даже захоти я скрыть свое желание, мне бы это не удалось.