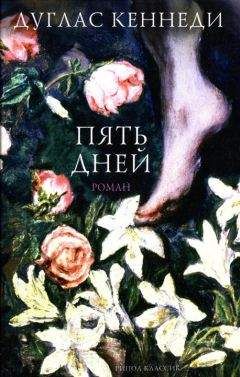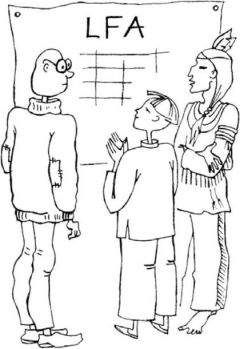Или, в моем случае, что через полтора часа я должна быть в офисе адвоката, чтобы подписать юридическое соглашение, которое официально положит конец моему браку.
Юридическое соглашение, которое официально положит конец моему браку.
Да, официально. Этот документ составили два адвоката, и, как только он будет подписан обеими сторонами, соглашение обретет законную силу. Будет решен и вопрос о разделе имущества, по которому мы не могли договориться. Но слово «соглашение» подразумевает относительно миролюбивое расставание. К сожалению, расстались мы отнюдь не друзьями: Дэн до сих пор, по прошествии многих месяцев, не может смириться с тем, что я решилась на развод, ушла от него, потому что была несчастна в браке и считала, что у наших с ним отношений больше нет будущего, что они умерли. Как он выразился, в очередной раз умоляя меня предоставить ему второй шанс: «Если б ты бросила меня ради кого-то, это я еще мог бы понять. Но уйти от меня просто потому, что ты хочешь уйти…»
Он так и не узнал, что я собиралась уйти от него к другому мужчине, что я была в отчаянии от того, что эти планы внезапно рухнули. И он даже не заметил перемены в моем эмоциональном состоянии… таков уж был наш брак. И первые месяцы после Бостона я продолжала жить с ним в одном в доме — главным образом потому, что носила в себе губительную печаль. Делала вид, что все нормально, а сама пыталась совладать с острой болью утраты.
Мои дети, напротив, сразу заметили, что я чем-то сильно огорчена. Утром того дня, когда я вернулась домой в предрассветный час, чтобы проводить на работу Дэна — и расплакалась, осознав, что я не должна быть здесь, с этим человеком, — три часа спустя появилась Салли и увидела меня на крыльце. Я спала, сидя на садовом стуле. Сидела, смотрела на бескрайнюю ширь неба — и заснула.
— Мама, мама? — затрясла меня дочь.
Окоченевшая, я открыла глаза и почувствовала, что мне нездоровится. Салли спросила, почему я сижу на холоде, а я в ответ лишь уткнулась головой ей в плечо и сказала, что люблю ее. В другой ситуации Салли, как и многие подростки, пришла бы в ужас от такого проявления родительских чувств, тем более что я, обнимая ее, изо всех сил старалась сохранить самообладание. Но вместо того, чтобы выказать пренебрежение, присущее всем шестнадцатилетним, она тоже обняла меня и спросила:
— Ты хорошо себя чувствуешь?
— Стараюсь.
— Что случилось?
— Ничего, все в порядке.
— Тогда почему ты торчишь тут на холоде?
— Этим вопросом я задаюсь уже много лет.
Салли отстранилась от меня, пристально посмотрела на мое лицо и, наконец, спросила:
— Ты уйдешь от него?
— Я этого не сказала.
— Но я же не дура. Уйдешь?
— Не знаю.
— Только не надо жертв ради меня.
Крепко обняв меня еще раз, она ушла в школу.
Примерно через час я снова была в дороге, ехала на юг, в Портленд, чтобы передать краски преподавателю Бена. Мой путь пролегал через Бат. У меня все еще была визитка Ричарда, в багажнике лежала его кожаная куртка, которую я переложила туда из чемодана, в сумочке — его новые очки. Нет, я не собиралась завозить эти вещи в его офис. Такая театральность не по мне. Хотя я подумывала о том, чтобы положить их в коробку и отослать по почте, вложив в посылку записку с одной-единственной строчкой: «Желаю всех благ». Инстинктивно я понимала, что лучше ничего не предпринимать. Поэтому, никуда не сворачивая, я приехала в Портленд и оставила краски одной из сотрудниц Музея изящных искусств, сидевшей за стойкой у входа. Та клятвенно заверила меня, что передаст их профессору Лейтропу. Возвращаясь к своей машине, я отправила Бену SMS-сообщение, написав, что тетроновый синий кобальт доставлен в музей и вечером краска должна быть у него. Потом мне случилось пройти мимо одного из многочисленных бездомных, которые всегда стоят на Конгресс-стрит, просят подаяние. Бездомному, которого встретила я, на вид было около пятидесяти лет. Небритый, опустившийся человек. Но он просил подаяние так неназойливо, что я сразу поняла: он из тех людей, с кем жизнь обошлась особенно жестоко. Погода испортилась: на улице похолодало, небо посерело. А на бедняге из верхней одежды была лишь легкая нейлоновая куртка, явно не очень теплая. Я дошла до своей машины, вытащила из багажника кожаную куртку и отдала ее бездомному, сидевшему у фонарного столба.
— В ней вам будет теплее, — сказала я.
Бездомный уставился на меня изумленным взглядом, спросил:
— Это вы мне отдаете?
— Да.
— Почему?
— Потому что вам она нужнее.
Бездомный взял куртку, тотчас же примерил ее.
— Ого, в самый раз, — обрадованно произнес он, хотя на самом деле куртка сидела мешком на его тощей фигуре.
— Удачи, — сказала я.
— А пару баксов не дадите?
Я полезла в сумочку и вручила ему десятидолларовую купюру.
— Вы мой ангел милосердия, — сказал он.
— Спасибо за комплимент.
— Вы его заслужили. Надеюсь, счастье вам улыбнется, мэм.
Я думала над его пожеланием всю дорогу домой. Неужели мое отчаяние столь очевидно? Неужели заметно, что я раздавлена горем? Слова бездомного меня встревожили, и утром следующего дня, придя на работу в больницу, я постаралась предстать перед своими коллегами бодрой и веселой. Правда, к концу недели доктор Харрилд тоже ненавязчиво поинтересовался, все ли у меня хорошо.
— Я что-то сделала не так? — спросила я.
— Да нет, — ответил он, несколько озадаченный моим тоном. — Просто в последнее время вас как будто что-то гложет. И я немного обеспокоен.
Мое состояние меня тоже беспокоило, ибо по возвращении из Бостона я плохо спала по ночам, не более трех часов, и начинала чувствовать, что становлюсь неуравновешенной — неизбежный результат четырех бессонных ночей кряду. Но я также понимала, что подразумевал доктор Харрилд: «В вашей жизни происходит что-то неприятное, и вас это огорчает, однако ваши личные проблемы никоим образом не должны отражаться на работе».
В тот вечер я позвонила своему терапевту, доктору Джейн Банкрофт, местному врачу старой школы, откровенной, лишенной всяких сантиментов женщине, у которой я наблюдалась вот уже более двадцати лет. Я сказала медсестре в ее приемной, что мне срочно нужно попасть на прием к доктору, и попросила, чтобы мне перезвонили на мобильный, а не на городской телефон. Пять минут спустя мне сообщили, что доктор Банкрофт готова принять меня в субботу утром, если меня это устроит.
Вообще-то, я уже договорилась с Беном, что в субботу приеду в Фармингтон и проведу там с ним весь день. Поэтому я написала сыну, что буду у него не с утра, а к часу дня, и в назначенное время, в девять часов, отправилась на прием к доктору Банкрофт. В эту ночь мне снова не спалось, сон сморил меня лишь ближе к пяти утра. Доктор Банкрофт — маленькая, жилистая женщина шестидесяти лет, грозная на вид — глянула на меня и сразу спросила:
— Давно у вас депрессия?
Я объяснила, что мучаюсь бессонницей всего несколько дней.
— Правильно сделали, что сразу обратились ко мне. Однако бессонница — это, как правило, признак более серьезных и длительных проблем со здоровьем. Поэтому спрашиваю еще раз: давно у вас депрессия?
— Лет пять, — ответила я и добавила: — Но до последнего времени это никак не сказывалось ни на моей работе, ни на чем другом.
— И почему, по-вашему, вы перестали спать на этой неделе?
— Потому что… кое-что случилось. Нечто такое, из-за чего у меня возникло чувство…
Я умолкла. Слова проплывали передо мной, но до рта не доходили. Боже, как же мне нужно поспать.
— Человек может пребывать в депрессии многие годы, — заговорила доктор Банкрофт, — и его организм вполне способен нормально функционировать на протяжении долгого времени. Депрессия — как темная тень, нависшая над нами, с которой мы просто живем, которую воспринимаем просто как часть самих себя. Пока мрак не начинает засасывать нас и жизнь не становится невыносимой.
От доктора Банкрофт я ушла с рецептом снотворного под названием миртазапин, которое также являлось легким антидепрессантом. Она заверила меня, что, если я буду принимать по одной таблетке в день перед сном, мое состояние заторможенности как рукой снимет. Доктор Банкрофт также посоветовала мне обратиться к невропатологу из Брансуика, некоей Лайзе Шнайдер, которая, по ее мнению, была вполне «здравомыслящем» врачом (высокая похвала из ее уст); моя медицинская страховка должна была покрыть стоимость услуг Лайзы Шнайдер. В местной аптеке я купила препарат по выписанному мне рецепту и поехала в Фармингтон, куда добиралась два часа. Увидев Бена, я вздохнула с облегчением, ибо так хорошо он не выглядел уже многие месяцы. Я стала рассматривать картину, над которой он работал. Поразительное произведение — и по масштабности (огромное полотно размером девять на шесть футов), и по смелости замысла. Издалека — дерзкая абстракция: исполненные энергичными, яростными мазками волнообразные формы контрастных синих и белых тонов, напоминающие неистовство прибрежных вод, — пейзаж, знакомый Бену с детства и (как я догадывалась) отражавший то смятение, в котором он пребывал весь минувший год. Может, из-за бессонницы, из-за своих личных сумбурных переживаний, но, увидев, как Бен изобразил свои душевные муки в этом, безусловно, выдающемся творении (ну да, я его мать и, наверно, сужу предвзято, хотя, даже если отвлечься от моего субъективизма, это — все равно впечатляющая, смелая картина), я почувствовала, как у меня снова защипало в глазах.