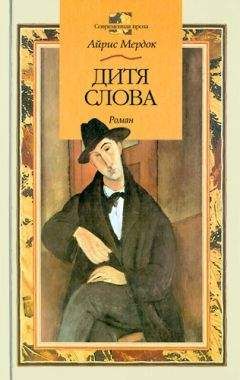— О чем вам будет угодно.
Китти заходила по причалу — шаги ее негромко, глухо звучали на покрытых морозным настилом досках.
— Видите ли, — продолжала она, — как ни странно — хотя, наверное, это вовсе не странно, — но вы — единственный человек, с которым я могу говорить о некоторых вещах. Конечно, я говорю с Ганнером, как я вам уже рассказывала, но у нас такой ограниченный круг тем — я хочу сказать, мы все снова и снова перебираем одно и то же: как Ганнер себя чувствует; меняется ли со временем его состояние; чувствует ли он себя лучше, чем год тому назад; помогло ли ему посещение того или другого психиатра, и так далее, и тому подобное. Ведь это все равно, как если бы я жила с тяжелобольным. Вы меня понимаете? Я вам не наскучила?
— Не говорите глупостей, — сказал я.
— Извините, я не хотела, чтобы это так выглядело, я просто хотела, чтобы вы поняли, что в известном смысле такая жизнь ужасно скучна и в общем-то безнадежна. Когда человек чем-то одержим, это так скучно. Он всегда говорит одно и то же, ходит и ходит по однажды заведенному кругу, хочет вырваться из него, хочет полной, абсолютной перемены, а это-то и невозможно. — Она умолкла, но и я молчал. — Когда мы встретились с вами у статуи Питера Пэна, я сказала вам… по-моему, сказала… видите ли, я так часто мысленно разговариваю с вами — я просто не уверена, что я вам действительно сказала, а что мне только кажется, будто сказала… Так вот, я жила все эти годы… в ее тени.
— Да.
— Но мы с Ганнером никогда по-настоящему не говорили о ней — мы не могли. Я-то как раз могла бы, но он не мог. Мы говорили о другом, об его одержимости, его болезни, но ее имя ни разу не было произнесено. И, однако же, она всегда была с нами, рядом.
— Да.
— Я жила рядом с призраком — вернее, с двумя призраками.
— С двумя?
— С ее призраком и с вашим.
— Ну, конечно. И вы должны оба эти призрака утихомирить. — Никогда я еще так отчетливо не понимал, что не только обречен, но и обязан исчезнуть — проделать необходимый ритуал, а потом рассыпаться в прах и больше не вступать в круг их жизни.
— Наверное, не очень хорошо так говорить, но — да. Понимаете, мы ни разу по-настоящему, впрямую не разговаривали об этом с Ганнером. Он все твердит, что жизнь ко мне несправедлива, что я вышла замуж за больного человека. Наша любовь была всегда какая-то увечная, неполноценная, я не могла добраться до источника его страданий и помочь ему. А мне так хочется — о, я и сказать вам не могу, как хочется — увидеть, что он избавился от прошлого, освободился, что он может шагать в будущее вместе со мной.
Я стоял, не шевелясь, весь напрягшись, как человек перед расстрелом, который изо всех сил старается думать лишь о своей приверженности делу, которое привело его к этой минуте. Горечь могла тут все испортить, она была более опасным противником, чем любая мягкость. Где-то посередине проходила очень узкая неуютная полоса, какой я и должен держаться. Я сказал, но без горечи:
— Она ведь существовала.
Китти ни слова не сказала мне на это. Лишь продолжала вышагивать, а чуть погодя спросила:
— Какая она была?
— Разве Ганнер вам не говорил?
— Никогда в жизни. Вы просто не понимаете. Это абсолютно исключено.
Я задумался.
— Едва ли я смогу описать вам ее — во всяком случае, не так вот сразу.
— Скажите хоть что-то. Прошу вас. Хоть что-нибудь. Какого цвета у нее были волосы?
— Мышиного.
— Она была красивая?
— У нее были чудесные… такие сияющие… умные… глаза. Извините, я не могу… не могу…
Китти глубоко вздохнула — теперь она стояла неподвижно и смотрела на темную, стремительно уносимую отливом воду.
— Вы ни разу не видели ее фотографии? — помолчав, спросил я.
Она покачала головой. Уж не плачет ли она, подумал я, но лицо ее было от меня скрыто.
Когда она снова заговорила, голос ее звучал твердо. Она явно решила переменить тему.
— Вы говорили мне, что эта… история… сломала вам жизнь.
— Да. И жизнь моей сестры тоже.
— У вас есть сестра?
Видно, Ганнер не так уж подробно рассказывал Китти обо мне, если не всплыло даже это. Я и сам не знал, обрадовало меня это обстоятельство или нет.
— Да.
Китти не стала развивать тему сестры.
— Но, как я уже говорила, не следует ли вам тоже подумать о себе, попытаться излечиться или дать себя излечить, чтобы жизнь стала легче, и так далее? — Сказано это было как-то неуклюже и прозвучало невольно холодно.
— От призраков нельзя излечиться. Они просто исчезают, и все. — Вот этого не следовало говорить.
— Вы сами понимаете, что это глупо, — парировала она, пожалуй, еще более холодным тоном. — Вы должны и вы в состоянии попытаться. И если вы поможете Ганнеру, то вы хоть что-то сделаете, чтобы спасти прошлое.
— Да. Пожалуй. — Я с отчаянием почувствовал, что ток взаимопонимания между нами иссякает, прекращается. Вот сейчас она простится со мной, и я ничего не сумею придумать, чтобы помешать ей это сделать. И веду я себя так, точно все, что бы она ни говорила, раздражает меня. Как стереть это впечатление — может быть, схватить ее за руку и выложить все? И я вдруг спросил: — Вы получили мое письмо?
— Да, конечно. Благодарю вас… благодарю за то, что вы написали так подробно…
Молчание. Напрасно я заговорил о письме — это было ошибкой. Что бы я ни делал сейчас, все оборачивалось ошибкой.
Китти заговорила снова — на этот раз, казалось, и она хочет «спасти» наш разговор:
— Вы не должны так волноваться.
— Волноваться? Но без этого не обойтись!
— Извините, я что-то все не так говорю сегодня. Я хочу сказать: вы считаете, что во всем виноваты вы, но это не так.
— А кто же еще может быть тут виноват!
— Ну… он… даже я…
— Уж вы-то едва ли!
— Отчего же, и я. Я во всяком случае… не принесла ему счастья… не сумела по-настоящему помочь ему… другая женщина, возможно, сумела бы… и у меня нет детей… а ему так хочется иметь детей…
— Еще бы — после того, как он потерял двоих, но все равно я не понимаю… — У меня было такое ощущение, точно я барахтаюсь в вязкой тине.
— Двоих?
— Да… — Я прикрыл себе рот рукой.
— То есть как — двоих?
— Ну, в общем… я полагаю… мог бы потерять… я ведь сказал просто так…
— Но почему двоих? Вы же сказали — двоих?
Китти стояла передо мной. Глаза ее взволнованно сверкали. Отступать было некуда.
— Энн была в положении… это был его…
— Он ни разу мне об этом не говорил.
Я немного отошел от нее. Мне не хотелось видеть ее лицо, да и свое хотелось закрыть руками.
Китти тоже отвернулась от меня. Словно прозвучал гонг и борцов разделило пространство ринга. Или точно два самолета, летящих один на запад, другой на восток, вдруг оказались разделенными всей широтой неба. Китти опустилась на край причала, не заботясь о том, что может испачкать дорогое пальто.
Никогда еще я не чувствовал себя в такой мере жертвой прошлого. Я сказал:
— Мне очень жаль…
— Прошу вас, уйдите.
— Могу я…
— Уйдите, пожалуйста. Благодарю вас, что пришли. А сейчас, пожалуйста, уйдите.
Я повернулся и медленно пошел прочь, к набережной.
Было всего лишь половина восьмого, когда я добрался до Норс-Энд-роуд. Все предшествовавшие дни и даже сегодня, и даже во время свидания с Китти я, конечно, не забывал о том, что встречусь с Кристел в субботу вечером. Суббота — день, отведенный мною для Кристел, и, если я не предупреждал ее о том, что не приду, она ждала меня. Когда я позвонил ей в четверг вечером, до меня долетело одинокое эхо ее печального существования. Я, конечно, понимал, что Кристел из-за меня так обеднила свою жизнь, что она одинока из-за меня. А ведь я когда-то намеревался окружить ее друзьями, которые дарили бы ей радость, раз и навсегда возместить ей то, чего она не знала в страшные годы детства! И все это было бы возможно, даже легко осуществимо, если бы я сам был счастлив. А теперь вот она живет в бедности, совсем одна, и из двух друзей, которых я ей привел, один (Клиффорд) доставил ей лишь горе, а от другого (Артура) она отказалась из-за меня. Попытался ли я измерить ее одиночество или хотя бы вообразить? Нет. Я ведь никогда не задумывался над тем, как она проводит долгие часы и дни между нашими встречами.
Мне всегда было приятно и радостно встречаться с Кристел, хотя среди сложных химических процессов, происходивших в моей душе, ни разу не возникло желания чаще видеть ее, а вот сейчас я страстно, слепо, с лихорадочным нетерпением гонимого жаждал видеть ее. В твердой уверенности, что все будет абсолютно так, как всегда, я бегом взбежал по лестнице к ней наверх.
Все и было абсолютно так, как всегда. На кружевной скатерти стояло два прибора, и в углу горела лампа под пергаментным абажуром, по которому плыл кораблик, горела только для декорации, поскольку яркий свет в центре комнаты и без того хорошо освещал жалкое ее убранство. На столе стояло шерри. Сухое же вино принес я, купив его, по обыкновению, в ближайшем баре. Кристел сидела у стола и шила. Она сразу увидела по моему лицу, что я взволнован, отшвырнула шитье и обошла стол. Мы обнялись и, крепко прижавшись друг к другу, закрыв глаза, какое-то время стояли так. Во мне ведь было шесть футов с лишним, а в Кристел — всего пять футов с небольшим, так что наше объятие всегда походило на замысловатый фокус. Я чуть приседал, она вставала на цыпочки. Сейчас мне особенно легко было присесть — я готов был рухнуть на землю, как только руки ее коснулись меня.