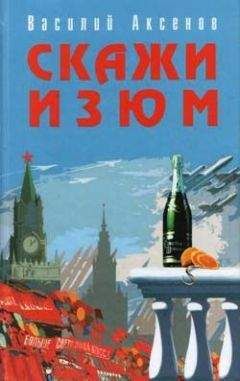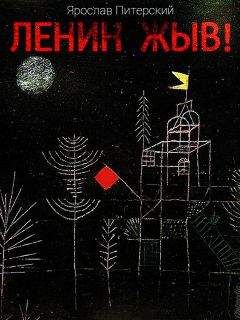Ознакомительная версия.
Собрались писать бровастому, ну и пишите. Охотно присоединюсь, заодно со всеми. Я, что ли, должен вам писать? Сочи-пять эту пакость? Почему? Почему не Славка, не Андрей, не Георгий Автандилович, в конце концов, как герой восьми республик? Кто это меня лидером здесь назначил, козлом отпущения? «У старушки колдуньи, крючконосой горбуньи, козлик жил светло-серый, молодой, как весна»… Пожалуйста, начинайте, я охотно поддержу, но вот сам начинать ни за что не буду!
Запахло разбродом и упадком. Фотографы бессмысленно попивали водку, коньяк, вермут, то есть то, что дали. Потом всё выпили, а письма писать так и не начали. Собрали по пять рублей, послали на Новый Арбат Васюшу, Олеху и тартусского профессора Юри Ури, чтобы выдавал себя за иностранца. Тут как раз и настоящие иностранцы явились, молодые шакалы пера Люк и Франк. Видно, кто-то им сказал, что группа «Новый фокус» проводит совещание в мастерской своего лидера Огородникова. И место важного события, однако, они застали здесь какую-то дурацкую вечеринку с бренчанием на гитаре, с болтовней по углам. Оживление внес лишь мастер Цукер, пришедший вслед за иностранцами. Он снял богатое тяжелое пальто, построенное еще его отцом в период первых послевоенных пятилеток, и оказался без брюк. Пиджак и галстук присутствовали, левая рука была при часах, правая при массивном перстне с колумбийским рубином, а вот ноги мастера Цукера оказались обтянутыми шерстяными кальсонами. Смутившись поначалу, он затем начал всем объяснять, что в спешке забыл сменить на костюмные брюки вот эти «тренировочные штаны». Чтобы ни у кого сомнений на этот счет не оставалось, мастер Цукер сел в самом центре и небрежно завалил ногу за ногу. Вот видите, говорила его поза, мастер Цукер вовсе не смущен, а раз он не смущен, то, значит, он вовсе и не без брюк пришел на собрание, а просто в «тренировочных штанах».
Ситуация становилась все более дурацкой. Кое-где стали поблескивать линзы объективов. Тех, кто фотографирует друг друга, будем бить по рубцу, заявил Шуз Жеребятников. Он тоже не начинал писать Брежневу и иногда подмигивал Огоше – правильно, мол, действуешь!
Как вдруг все волшебно изменилось: приехала Анастасия. Оказалось, что она выстояла часовую очередь в кулинарном цеху «Праги», и не без результатов – купила полторы сотни! печеных! с печенкой! пирожков! Сейчас все это в духовку, и через десять минут – ужин! Вот, оказывается, какая незаменимая баба для диссидентской активности! Ну, чего это вы тут, мальчишки, раскисли? Мальчишки! А ведь совсем неплох тут оказался альпинистский задорчик. Письмо Брежневу сочинить не можете? Бери карандаш, Олеха, я продиктую. Дорогой Леонид Ильич… вот именно «дорогой», а не «уважаемый», там «уважаемых» нет. Пиши дальше: мы, группа советских фотографов, озабоченных положением дел в области нашего искусства, обращаемся к вам… Да, между прочим, утром звонил Семен. Какой Семен? Здрасьте, я ваша тетя – директор пельменной «Континент». У них все готово, можно нести экспозицию. Пиши дальше сам, Олеха, потом все вместе проверим. Пробег на кухню, к пирогам, тяжеленная косица отбрасывается за спину, эх, в самом деле, лучше в наши дни не найдешь бабы! Вот первая порция горяченьких, промывочный таз с краями, налетай – подешевело! Обстановка высокогорного бивуака. С набитыми ртами фотографы стали спорить, стоит ли игра свеч, нести или не нести экспозицию в «Континент»? А в чем проблема, удивилась Настя. Кто-нибудь струсил? Нестись или не нестись? Хохот вокруг – вот ведь баба! Эдакая, понимаете ли, небрежная игра слов! Оказывается, никто не струсил, все хотят снестись. Господа, господа, хлопотал вокруг Васюша Штурмин, давайте-ка сгруппируемся для «коллективки», давайте-ка классическую композицию «Письмо султану». Тут и хозяин мастерской Ого перестал звереть и спел для общего удовольствия определенную балладу.
В честь Александра Родченко, или Баллада о брючной пуговице
Он не любил снимать «от пуговицы»,
Но есть любил
Вкрутую сваренную луковицу
С горшком белил.
Друг приходил.
Цилиндр и валенки.
Хрипя, как хряк,
На печке мазал пару голеньких
С цветком в кудрях.
Дыша духами и туманами
Орлами хезала Москва,
В социализм неугомонная
Мечта стремилась и молва.
Автомобиль, рыча, подваливал
И звал удрать,
Валила на диваньи валики
Клоповья рать.
Угарной жизни разноклочие
Иль марш-парад?
Чему служить вы предназначили
Ваш аппарат?
Хрусталь и сталь в молве расстелены.
Избавясь от богемных патл,
Кружил перед глазами Сталина
Летальный татлинский летатл.
Бурлит на кухне чайник яростно,
Певец коммун.
Коммуна поднимает ярусы
К одной из лун!
Куда двойная экспозиция
Вас приведет?
Поймет ли ваши экспликации
Простой народ?
Пролетарьят в России вспученной
Освободился от оков.
Утратив пуговицу брючную,
Сидел Сережа Третьяков.
Андрей Евгеньевич Древесный злился на снегопад. Встреча с Полиной была назначена на Яузе (совершенно непонятно, кстати, почему на Яузе, ах да, ведь это как бы под предлогом визита к подруге, а та проживает на Яузе), и в этом как раз месте Яуза, круто повернув, теряет свои безобразные московские строения и в припадке жеманства струится, понимаете ли, под горбатым псевдоленинградским мостиком, рядом с которым – чистая претензия на классический вариант – фонарь, аптека, ну, а под снегопадом, под крупными медленно слетающими с небес хлопьями получается просто нечто оперное, уж-полночь-близится-а-Германа-все-нет, только наоборот, извольте, опаздывает, как последний дундук стою под снегопадом.
Прошли три молодых парня, обратились: чувак! Хороши мерзавцы, я им в отцы гожусь, а они – чувак! Сам виноват, одеваюсь, как мальчик. Дай закурить, чувак! Чувиху ждешь?
Наконец появилась «героиня романа». Бежит. Издали можно подумать, что и в самом деле чувиха бежит на свидание. Вблизи, однако, совсем не тот коленкор. Интересно, что после жизни с Фотиком в лице Полины вдруг советчина какая-то отпечаталась, а ведь раньше даже и в самых безобразных ситуациях советчиной и не пахло. Прости, я опоздала! Андрей, времени нет совсем, поэтому сразу… Андрей, умоляю тебя – уезжай куда-нибудь!
Ну, я так и думал! Полина, знаешь ли, не надо так драматизировать, ведь мы не в опере. «Новый фокус» предпринял шаги, официальное представление альбома, письмо Брежневу, или кто там у них наверху, не надо, знаешь ли, этих ночных тревог, распахнутых глаз, снегопада, ведь мы уже пожилые люди.
Ах, Андрей! Письмо Брежневу! Да ведь наивно же! Неужели не понимаешь! Ведь машина же закрутилась!
Тебя, может быть, Фотий попросил на меня подействовать? Скажи, Полина, что тебя заставляет так паниковать, Фотий просит или кто-нибудь еще?
Никто не просит! Как ты можешь? Андрей! Так думать? Ведь не чужие же! Мы с тобой! Наши дети! Да и вообще! Пойми, я не могу! Увидеть, как ты все свое творчество! Одним махом! Ведь ты талантливей их всех! Пойми, я всех ребят люблю! Ведь я же все-таки! Одна из вас! Но ты из всех! Самый настоящий! Прости, но Макс! Он в авантюру свою вас всех втягивает! Пойми! Нет сил!
Древесный тронут был ее порывом, потоком этих сбивчивых аргументов, к тому же что-то в этом потоке показалось ему «не лишенным чего-то», однако трудно было разобраться в этой оперной ситуации, что именно.
Они завернули за угол, там псевдо-Ленинград кончался, тянулись освещенные мертвенным светом окна какой-то фабрики, за заборами громоздился хлам безобразной индустрии. В конце безжизненной улицы вдруг появился зеленый огонек такси. Тачка, вскричала Полина, вот удача! Теперь я всюду успеваю и никто ничего не заметит! В последнее время в отношении главы семьи сурового Фотия Фекловича она стала употреблять вот такое, собирательное и безразличное: «все», «кто-нибудь», «никого»…
Я знаю, что поступаю безрассудно, говорил Андрей Евгеньевич, но не могу я всю жизнь и всю свою работу ощущать всегда под этим проклятым советским брюхом. В отличие от его мой протест стоит на личном фундаменте, и ты это прекрасно знаешь. Уничтожение дедушки, искалеченная жизнь отца, вечный страх матери… Хватит! Да, я далек от всяческих политических игр, однако, прости, я продолжаю род Древесных…
Уже садясь в такси, она крикнула: хотя бы не ходи на правление! На пленум правления не ходи ни в коем случае!
Ознакомительная версия.