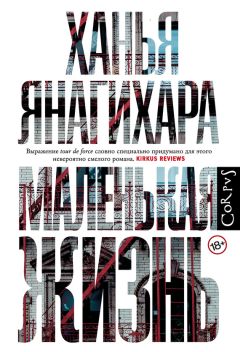— Почему ты это предлагаешь? — тихо спросил он, когда немного пришел в себя. — Почему именно мне?
Ричард пожал плечами:
— Мне бывает одиноко. Ты не думай, я не собираюсь все время к тебе заходить. Но иногда приятно знать, что в этом здании есть еще одна живая душа. А ты — самый ответственный среди моих знакомых, хотя, конечно, за этот титул не идет напряженная борьба. Мне с тобой интересно. И потом… — Он замялся. — Обещай, что не рассердишься.
— Так, — сказал он. — Ну обещаю.
— Виллем рассказал мне, что случилось тогда, в прошлом году, когда ты пытался подняться, а лифт не работал. Джуд, тут совершенно нечего стесняться. Он волнуется о тебе. Я сказал ему, что как раз собираюсь с тобой поговорить про эту квартиру, и он тогда подумал — он думает, — что это такое место, где ты мог бы жить долго. Всегда. И лифт здесь никогда не сломается. А если сломается, я тут, внизу. В смысле — конечно, ты можешь купить что-то другое, но я надеюсь, ты подумаешь над тем, чтобы переехать сюда.
В эту минуту он не злится, просто чувствует, насколько он уязвим — не только перед Ричардом, но и перед Виллемом. Он пытается скрывать от Виллема все, что можно скрыть, не потому, что не доверяет, а потому, что не хочет выглядеть в глазах Виллема неполноценным человеком, за которым надо присматривать, которому надо помогать. Он хочет, чтобы Виллем, чтобы все они считали его надежным и стойким, чтобы обращались к нему со своими проблемами, а не он к ним. Он со стыдом думает о разговорах, которые ведут о нем Виллем и Энди, Виллем и Гарольд (он убежден, что такие разговоры происходят чаще, чем он думал), а теперь еще и Виллем и Ричард, и печалится, что Виллем так много времени посвящает беспокойству о нем, думает о нем так, как думал бы о Хемминге, если бы тот выжил: как о человеке, нуждающемся в заботе, как о человеке, за которого надо принимать решения. Он снова представляет себя стариком: может ли так быть, что и Виллем представляет себе его старость точно так же, что этот страх их объединяет, что такой конец представляется Виллему столь же неизбежным, как и ему самому?
Тогда он вспоминает разговор, который однажды произошел между ним, Виллемом и Филиппой; Филиппа говорила о том, как когда-нибудь, в старости, они с Виллемом поселятся в доме ее родителей, среди садов на юге Вермонта.
— Я это очень ясно вижу, — сказала она. — Дети переедут жить к нам, потому что в большом мире ничего не добьются, у них в общей сложности будет шестеро собственных детей с именами вроде Ровер, Томат и Пантера, внуки будут бегать по всему дому голые, в школу не пойдут, и нам с Виллемом придется их содержать до конца времен…
— А ваши дети чем будут заниматься? — спросил он, не теряя делового подхода даже во время игры.
— Оберон будет создавать арт-объекты из продовольственных товаров, а Миранда — играть на цитре с шерстяными нитками вместо струн, — ответила Филиппа, и он улыбнулся. — Они останутся вечными дилетантами, и Виллем будет вынужден работать, даже когда так одряхлеет, что мне придется выкатывать его на сцену в инвалидной коляске, — она умолкла, покраснела, но после секундной заминки продолжила, — чтобы оплачивать их учебу и творческие эксперименты. Я заброшу работу костюмера, возглавлю компанию по производству органического яблочного соуса, чтобы расплатиться со всеми долгами и содержать дом, огромную, роскошную развалюху с термитами в каждом углу, и у нас будет такой огромный, весь в царапинах дубовый стол, за которым мы все без труда разместимся вдвенадцатером…
— Втринадцатером, — вдруг сказал Виллем.
— Почему втринадцатером?
— Потому что Джуд тоже будет жить с нами.
— Правда? — спросил он, в той же шутливой манере, но с чувством облегчения, радуясь, что и ему нашлось место в той картине старости, которую рисовал себе Виллем.
— А как же. Ты будешь жить в гостевом домике, и Ровер каждое утро будет таскать тебе твои гречневые вафли, потому что ты так от нас устанешь, что не захочешь завтракать с нами за общим столом, а после завтрака я буду приходить с тобой потрепаться и заодно спрятаться от Оберона и Миранды, которые будут осаждать меня, требуя умных и ободряющих замечаний про их последние творческие усилия. — Виллем посмотрел на него с широкой улыбкой, и он улыбнулся в ответ, хотя видел, что Филиппа уже не улыбается, а сидит уставившись в стол. Когда она подняла голову, их глаза на полсекунды встретились, и она быстро отвела взгляд.
Ему показалось, что именно после этого случая отношение Филиппы к нему изменилось. Этого не замечал никто, кроме него, может быть, даже она сама не замечала, но если раньше он заходил в квартиру и видел, как она что-то рисует за столом, они обычно мило беседовали, пока он набирал себе стакан воды и рассматривал ее рисунки. Теперь же она просто кивала ему и говорила: «Виллем вышел в магазин» или «Он скоро придет», — хотя он ничего не спрашивал (она всегда была желанным гостем на Лиспенард-стрит, независимо от того, был Виллем дома или нет), и он некоторое время выжидал, пока не становилось очевидно, что общаться она не собирается, а потом ретировался в свою комнату работать.
Он понимал, почему может раздражать Филиппу: Виллем всюду его с ними звал, включал его во все свои дела, даже в их преклонный возраст, даже в мечту Филиппы об их мирной старости. После этого он старался отказываться от приглашений Виллема, даже если речь шла о ситуациях, где статус Виллема и Филиппы как пары был не так важен — если они шли в гости к Малкольму, он уходил в другое время, а на День благодарения пригласил в Бостон и Филиппу тоже, хотя она в результате так и не поехала. Он даже попытался поговорить с Виллемом о своих ощущениях, обратить его внимание на ее — для него несомненные — чувства.
— Она тебе разве не нравится? — встревожился Виллем.
— Конечно нравится, ты же знаешь, — ответил он. — Я просто думаю… я думаю, вам надо больше времени проводить вдвоем, Виллем. Ей, наверное, уже надоело, что я все время с вами.
— Она тебе это сказала?
— Да нет, Виллем, конечно не говорила. Это моя догадка. У меня ведь богатый опыт общения с женщинами.
Позже, когда Виллем и Филиппа расстались, он чувствовал себя виноватым — таким виноватым, как будто они расстались из-за него. Но он еще до этого гадал, не пришел ли сам Виллем к аналогичному выводу — что никакой серьезный союз не выдержит его постоянного присутствия в жизни Виллема; он гадал, не пытается ли Виллем спланировать для него другое будущее, чтобы он в старости не поселился в коттедже на участке семейства Рагнарссонов, не превратился в жалкого друга-холостяка, в бесполезное напоминание о давно позабытой, детской жизни Виллема. Я останусь один, решил он. Не ему разрушать надежду Виллема на счастье: он хотел, чтобы у Виллема все это было — и сады, и изъеденный термитами дом, и внуки, и жена, которая ревнует к друзьям и жаждет внимания. Он хотел, чтобы у Виллема было все, что он хочет, все, чего он заслуживает. Он хотел, чтобы Виллем жил без лишних забот, обязательств и ответственности, даже если заботы, обязательства и ответственность — это он сам.
На следующей неделе отец Ричарда — высокий, улыбчивый, приятный мужчина, с которым он познакомился еще на первой выставке Ричарда, три года назад, — прислал контракт, который он тщательно изучил вместе с однокашником по юридической школе, специалистом по сделкам с недвижимостью, и строительную спецификацию здания, которую он показал Малкольму. От цены его почти физически затошнило, но однокашник сказал, что надо покупать: «Это невероятное предложение, Джуд. Ты никогда, никогда, ни за что в жизни не найдешь ничего подобного — такого размера в таком районе за такие деньги». А Малкольм, изучив документы, а потом и квартиру, сказал ему то же самое: покупай.
И он ее купил. И хотя они с Голдфарбами договорились о неторопливом десятилетнем графике, беспроцентной аренде в счет выкупа, он намеревался выплатить всю сумму как можно скорее. Каждые две недели он переводил половину заработка в счет выплаты, а вторую оставлял на жизнь и сбережения. Во время еженедельного телефонного разговора он рассказал Гарольду, что переехал («Аллилуйя!» — сказал Гарольд: он никогда не любил Лиспенард-стрит), но не рассказал, что купил квартиру, — а то Гарольд будет считать, что обязан предложить ему деньги. С Лиспенард-стрит он перевез только матрас, лампу, стол и стул и все это расположил в углу. По ночам он иногда поднимал голову от работы и думал: вот ведь идиотское решение, как он сможет заполнить столько места? Как он сможет освоить все это пространство? Он вспоминал Бостон, Херефорд-стрит, вспоминал, как он мечтал там о собственной спальне, о двери, которую он когда-нибудь сможет закрыть. Даже в Вашингтоне, работая у Салливана, он спал в гостиной, а единственную спальню занимал сосед, молодой юрист, с которым он почти не виделся. Своя комната, настоящая комната с настоящим окном, где он был полновластным хозяином, появилась у него только на Лиспенард-стрит. Но через год после переезда на Грин-стрит Малкольм построил в квартире стены, и там стало поуютнее, а еще через год к нему переехал Виллем, и стало еще уютнее. Он виделся с Ричардом реже, чем предполагал — они оба часто были в разъездах, — но воскресными вечерами иногда спускался к Ричарду в мастерскую и помогал с каким-нибудь проектом: полировал связку тонких веток наждачной бумагой или брал груду павлиньих перьев и отстригал стержни от опахала. В детстве мастерская Ричарда привела бы его в восторг — везде стояли коробки и чаши с удивительными вещами: веточками, камнями, сушеными жуками и перьями, крошечными чучелками птиц в ярком оперении, разномастными кусочками какой-то мягкой светлой древесины, — и время от времени ему хотелось бросить работу и просто сидеть на полу и играть, на что в детстве у него обычно не было времени.