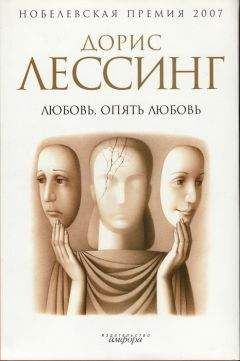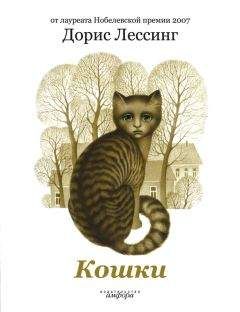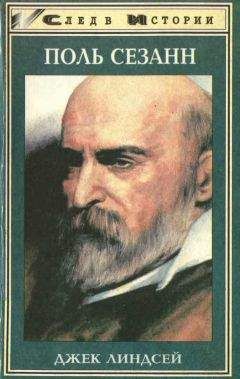— Сядьте, Сара, — скомандовала она и показала, как произвести это действие, плюхнувшись на стул и тут же снова вскочив. — Извините мое состояние. Вы такая собранная особа… — Конечно, Элизабет не сказала бы такого, если бы считала это качество положительным.
— Ну это вряд ли… — отказалась Сара от незаслуженной похвалы.
— Нет, я не хочу сказать, что вы равнодушны к кончине Стивена. Я знаю, что вы друг другу симпатизировали. Нет, не думайте, что я что-то имею против… Наоборот… Но эта проклятая безответственность… — Элизабет снова плюхнулась на скрипнувшее под нею сиденье, энергично высморкалась, утерла слезы с глаз и щек. Слезы, представляя, очевидно, дистиллят переполнявшей ее злости, тут же выступили снова. — Дети сначала поверили, что это несчастный случай. Но, кажется, уже начинают сомневаться. Для детей это кошмар. — Она снова звучно высморкалась. — О, черт… — Вытащила из здоровенной, как переметная сума, черной сумки — основательная сумка, еще на много похорон хватит — расческу, компакт-пудру, губную помаду, попыталась привести лицо в порядок, но слезы сводили на нет все усилия. — У нас со Стивеном была договоренность. Мы дали друг другу определенные обещания. Своего рода соглашение о партнерстве.
Элизабет, казалось, нуждалась лишь в слушателе, но Сара все же рискнула заметить:
— Но, Элизабет, неужели вы не видели? Он ведь сам на себя не походил, перестал быть самим собой.
— Видела, видела, но… — Она вздохнула, замолчала, размышляя (возможно, впервые за свою весьма разумную жизнь), взвешивая возможность для человека перестать быть самим собой… стать кем-то иным? Чем-то иным?
Снаружи скрипел под ногами гравий, хлопали дверцы автомобилей, раздавались бодрые голоса: «На неделе увидимся…»; «Будешь у Долли?».
— Что мне теперь делать? О, я знаю, вы скажете: у вас есть Нора. Да, слава богу, есть у меня Нора. Но кто будет управлять имением? — Необъятность задачи извергла из Элизабет еще стакан слез. — Нет, я не собираюсь отступать, я не боюсь ответственности… Черт, не могу перестать плакать, я так злюсь, так злюсь…
— Неужели вам никогда не приходило в голову, что такая идиллия не может длиться вечно? — отважилась Сара копнуть поглубже.
— Конечно, приходило. Кому не приходило в голову, что это идиотский фарс! Но так предать! Стивен меня предал! — Отказавшись таким образом признать, по крайней мере, в этот раз, существование сферы, где боль правит как жестокий король, подданные которого готовы на любые средства, чтобы от него избавиться, Элизабет снова вскочила. — Ладно, я не это хотела сказать. Что я хотела… Я несу ответственность по всем обязательствам Стивена. Я имею в виду финансовые обязательства. Вашу труппу он выделял, ваш театр у него стоял особняком. Его увлечение Жюли — я имею в виду, как личностью — выходило за рамки здорового интереса. Не знаю, в курсе ли вы, но Стивен ею буквально бредил. Я лично считаю, что не следует носиться с темой самоубийства, как это принято в опере и в драме. Это дурной пример для всех, а люди слабы, подвержены влияниям. Об этом нельзя забывать. — Элизабет принялась поправлять прическу, но получилось у нее еще хуже, и она вновь переключилась на осушение физиономии с помощью новых платочков и салфеточек. Слезы наконец иссякли. — Извините за все это, Сара. Когда разберемся, я пошлю вам все материалы по Жюли. Может быть, музею пригодятся, сами решите. И вот еще, это Стивен оставил для вас. Я не смотрела, видела мельком лишь первую страницу. — Она вручила Саре школьную ученическую тетрадь в красной обложке и решительно направилась к двери.
На обложке выделялось белое пятно наклейки, а на ней блеклая надпись карандашом: «Для Сары Дурхам».
Первая запись относилась к июню, к дню первого исполнения музыки Жюли в Квинзгифте. День за днем следовали краткие комментарии: «Не думал, что возможны такие ощущения»; «Эта музыка словно яд»; «Боюсь, я заболею»; «Страшная тяжесть в сердце, едва ношу его в груди»; «Слова „страстное желание" невыразительны и слабы для того, чтобы описать столь страстное желание»; «Понимаю, что означает „болеть любовью"»; «Болит мое сердце, болит»…
Почерк быстро ухудшается, почти с каждой записью, иные из них трудно прочитать. Последние записи особенно неразборчивы, слова в середине вырождаются в прямые хвосты и становятся похожими на энцефалограммы, снятые в последние мгновения жизни, когда импульсные выбросы сменяются безжизненной прямой.
Скорбные выкрики заблудившегося в стране печали: я одинок, я так несчастен, я люблю тебя, я тебя жажду, я болен от любви… сердце мое разбито, не снести мне больше, это не жизнь!.. умираю в пустыне!!!
Язык птичьих выкриков: чайка, черный дрозд, грач, ворона… Или язык так называемого народного творчества, городского фольклора:
Однажды англичанин красотку полюбил,
Увы и ах, увы и ах, а также о-ля-ля!
И страстью полоненный, он родину забыл,
Она была француженкой, гульлива и горда,
Увы и ах, увы и ах, опять же о-ля-ля!
Но смерть ее сразила в цветущие года…
В ноябре в Лондон по финансовым делам прилетел Бенджамин. Он специально задержался, чтобы встретиться с Сарой. Это совпало по времени с пиком — наивысшим взлетом или погружением на самое дно — эмоций, загоняющих Сару в тот же тупик, из которого не удалось выбраться Стивену. Стивен говорил, что не может выносить боли. К ней это тоже относилось. Она перечитывала оставленную им красную ученическую тетрадку, в очередной раз пробегала глазами его банальности, потому что опасалась углубляться в людоедские дебри своего собственного дневника. Вместе с ним она задавалась вопросами: что есть боль? Что у нее болит? Почему болит живое сердце? Что за ноша на нее навалилась? Почему? О, боже…
Осень выдалась мягкая, прогулки по Лондону и его паркам часто повторяли маршруты, проложенные ею вместе со Стивеном. Иногда Сара ощущала, что спутников у нее двое, казалось, что Стивен шагает рядом. Его, конечно, нельзя считать умершим, ведь он с нею, сопровождает ее, она чувствует его присутствие. И надо соблюдать осторожность, выдерживать дистанцию, чтобы с нею не случилось того же, что случилось с ним, чтобы не поддаться власти призрака. Может быть, когда Стивен действительно умрет для нее, она начнет по нему скорбеть? Или уже скорбит, сама того не сознавая? Не отвлекаясь от мыслей о Стивене, Сара умудрялась вести беседы с Бенджамином. Он по-прежнему развлекал ее, на ходу изобретая не слишком правдоподобные бизнес-прожекты, шутил в своем духе, сохраняя серьезный вид.
— Или, скажем, подъезжает к вашему дому фургон с образцами тканей… Знаете, что в Гонконге или Сингапуре вам за день костюм сошьют? Вы выбираете ткань, даете им образец, и они копируют вещь за двадцать четыре часа.
— Конечно же, вы заработаете на этом состояние.
— Надеюсь. А вот еще проект возрождения старых курортов Лимингтона, Бата и Танбридж Уэллз. Там выстроят новые спортзалы, откроют клубы и настоящие фермы здоровья, добавят процедуры водного закаливания. Осталось лишь найти каких-нибудь шишек королевских кровей для рекламы. Ваше королевское семейство вечно что-то рекламирует.
— Наверное, кроме принцев, еще и деньги нужны? Вы уверены, что можете совместить этот проект с кашмирским озером в Орегоне?
— К сожалению, кашмирское озеро приказало долго жить. На него как раз денег не хватает.
— А на оживление старых британских курортов хватает?
— Их ведь не надо изобретать на голом месте. Они лишь переживают спад. После Рождества рынок оживится, вот увидите.
Такие безответственные речи вели стрелочники денежных магистралей в одна тысяча девятьсот восемьдесят девятом году, накануне нового спада, депрессии, рецессии — как ее там ни назови. Накануне экономического кризиса.
Рассказывал Бенджамин и о семье. Они с женой наперегонки зарабатывали деньги, благополучные дети обоего пола учились в университетах. Бенджамин предъявил фото своего семейства, фото своего дома, фото своего банка — штаб — квартиры ассоциации банкиров Северной Калифорнии и Южного Орегона. Улыбки, улыбки, улыбки… лучатся оптимизмом люди, здания, прилизанные газончики-фонтанчики… Рассказывал и показывал ей, убеждая себя, что жизнь у него успешная, что живет он не зря, с толком, всем на пользу. Однако прошло какое-то время с тех пор, как он видел Сару во славе Бель-Ривьера и Квинзгифта. Какою предстала она перед его взором теперь? Оказалось, что все еще во славе. И жизнь ее здесь, в Лондоне, черт знает на что похожая в данный момент, казалась Бенджамину столь же мудреной, светской, исполненной значимости, как и описываемая во всяких припудренных театральных мемуарах, в книгах о театре, которые он читал с увлечением. Разумеется, ее квартирка не могла поразить размерами собственника обширного особняка, но все же выглядела она впечатляюще: ее заполняли театральные атрибуты, картины, книги, афиши, фотоснимки интересных людей, сцен, ситуаций. Как относился Бенджамин к ее целомудренному образу жизни, к ее воздержанию? Просто домыслил Саре тайного многолетнего поклонника, остающегося в тени, и как-то вскользь заметил, что ему завидует.