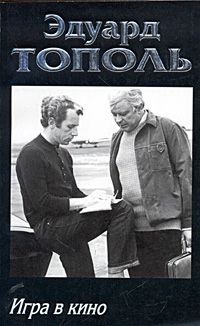Отец подошел со спины – за плечами у него рюкзак и двустволка, а в руке еще один увесистый вещмешок. Постоял, глядя, как пчелы пролетают в свое дупло прямо над Митиной головой, и вздохнул:
– Дурак ты, если уедешь. Тут тебя даже пчелы не кусают. Пошли… – И протянул Мите вещмешок.
Черноглазые бобры подгрызали накренившуюся и уже похрустывающую сосну. На другой сосне, сваленной кроной в воду, проворно передвигаются бобрята, отыскивая кору посочней.
Негромкий скрип уключин заставил насторожиться отца семейства. Бобер поднял острую морду – по озеру медленно скользит лодка. Озеро небольшое, с берегов его, как ложечки в блюдце, окунаются сваленные бобрами деревья.
Тонкий сигнал тревоги – и все семейство бобров уходит в воду и, выставив на поверхность лишь черные точки носов, распуская от них водяные усы, плывут к норе, спрятанной в береговом откосе.
Митя подгребает к сосне. Отец развязывает рюкзак и рядом с надпиленной бобрами сосной выкладывает подкормку – морковь, рубленую свеклу.
Вытягивая шеи, лоси шершавыми губами пробуют достать ветви повыше – там, где побеги не столь жесткие. Тонконогая лосиха, подернув чуткими ушами, поворачивает голову к Мите и его отцу. И оба они – и лось и лосиха – доверчиво пошли к людям: отец вытаскивал из рюкзака очередную порцию подкормки. Лоси деловито съели угощение, ушли с достоинством.
Тихий прозрачный лес настраивал лирически. Отец хрустел валежником, собирая костер.
– А что?! – Митя с улыбкой повалился в груду сухих осенних листьев и свободно раскинул руки. – Куплю мотоцикл! «Яву», а что? Отсюда до города час, не больше.
– При любимом деле даже плохо если, а и то хорошо, – ответил отец, сооружая козлы над будущим костром. – Ты не думай, что я тебя уговариваю или еще что.
– Так я понимаю, – согласился Митя. – Мне, батя, знаешь, в армии по первому году все лес снился. Ну, каждую ночь, ей-богу. Там же нет леса ни черта – море и море. Ну и пляжи эти. Эх, батя, вы б поглядели, как там люди живут!
– Шумно, поди?
– Не то слово!
– А я не завидую. Им там хорошо, а мне тут. Мать вот знает – я в доме больше трех дён высидеть не могу, нервничаю, с угла в угол. Так она сама мне рюкзак соберет – «ступай, отец, в лес». А я выйду, два дня похожу, зверя покормлю, птицу послушаю, глядишь – и сам бы запел, только вот голоса нет, это да.
– Философ вы, батя, – улыбнулся Митя.
– А разве нельзя? Ехать-то когда думаешь?
– Куда?
– Куда задумал. На Север свой.
Митя посмотрел на отца и опустил глаза.
– Побуду еще… Мать жалко.
– Мать – да… – Отец кашлянул, будто попершило. – Мне тоже. Я тебя около павильона видел, Митя, на тракте. Тоже мать встречал, только припоздал малость… На тебя глядел… – Отец сделал паузу, посмотрел сыну в глаза. – Выпил я потом, Митя. Крепко.
Митя удивленно и вопросительно глядел на него. Отец произнес, будто приговаривал к высшей мере:
– Мать ты свою постеснялся. Перед той, проезжей.
Митя опустил глаза.
– Прости, батя…
Они плыли по озеру к дому.
– Мне не то обидно, – говорил отец, – что уедешь ты. А вот зачем уедешь?
– Как это? Поеду, заработаю. Поживу как люди.
– Ну вот, – усмехнулся отец. – А мы тут нелюди?
– Да ладно вам, батя, – попросил, улыбнувшись, Митя. – Совсем добили.
Митя работал во дворе – чинил крышу сарая. Под лестницей ползали новорожденные щенята, а старая гончая лежала рядом, отдыхала.
Мать сидела дома, в комнате, на сундуке у окна и, отодвинув краешек занавески, смотрела на сына. Постарела она за эти дни или темный платок сделал ее лицо старше?..
Первые хлопья снега упали во двор и растаяли на теплой еще земле. Она увидела, как сын обеспокоенно поднял голову к небу, как поймал ладонью снежинку, потом другую. И вдруг стал решительно спускаться по стремянке.
И рухнуло у нее сердце, на томительном нерве повисло в груди и сжалось, словно забыло привычную свою работу – гнать кровь по нестарому телу. И так, на полувдохе застыла вся, когда он направился к дому, и уже знала, что он скажет.
А он, Митя, потрепал поднявшуюся ему навстречу гончую и – взошел на крыльцо.
Мать ждала.
Он вошел и сказал, будто извиняясь:
– Снег пошел, мама.
– Да, Митя… – отрешенно и тихо отвечает она, и глаза ее расширяются, как перед плачем.
– Мне это… мне ехать пора.
У нее не хватило сил – она всхлипнула и зажала ладошкой рот.
– Ну что вы, мама? Ну что вы? – растерялся Митя. – Я ведь с дружком, я за Фенькой заеду, ждет он. Ну перестаньте, не на войну же я! Может, скоро вернусь, не понравится – и вернусь… Или в отпуск. Платок вам куплю.
– Платок… – всхлипывает она. – У меня пять платков… Ну, да дай тебе Бог!..
И что они так плачут всегда, матери? Не на войну же действительно мы от них уезжаем.
Большие деньги даром не дают. Вкалывать надо. Взрывом подняло боковину сопки – как ополовинило. И подлесок, как щепу, взметнуло к низкому небу, закрутило с мерзлотой и снегом, а затем опрокинуло навзничь. Еще взрыв, еще…
А в урманной тайге с хрипом валятся сосны, им обрубают ветки, их связывают в плети и волокут к прелым болотам на лежневки.
И в карьере, где отгремели взрывы, экскаваторы грузят в самосвалы мерзлую землю, и бульдозеры, надрываясь, ворочают гранитные «бараньи лбы», недвижимые еще с ледникового периода, и следом, по наспех проложенному «зимнику» уже пошли тягачи, тянут плети метровых в диаметре стальных труб – гонят нитку нефтепровода.
А Гурьянов со взрывником Фадеичем уже уходят вперед, уже по новой сопке тянут тяжелые бумажные мешки с желтым аммоналом, раскладывают их по склону, готовят новый направленный взрыв. Только последней дрожью вздрагивают тоненькие заснеженные пихточки, только белка-дура с интересом посмотрела сверху на эту работу, а Гурьянов замахнулся снежком: «Брысь, дуреха!» Белка шуганула по веткам, а Фадеич, заломив рыжий лисий треух, уже чиркнул спичкой, зажег бикфордов шнур…
Гра-бах!!!
По вечерам в санном «балке», именуемом «ПДУ» – передвижной домик удобств, – домино и шашки под Эдиту Пьеху, посменный сон, семирная уха из муксуна и нельмы и горячий чай в алюминиевых кружках.
– Нет, в Якутию надо ехать, точно я знаю, – балагурил рыхлый оспатый увалень, уплетая сало с ухой и хлебом. – Там коефициент один к двум плюс полевые. Считай. Или – в Африку. В Африке тепловой коефициент идет, и зарплату нашим в конвертах дают, культурно. А девать некуда – водки ж нету. Кто будет в Африке водку пить? Ну. Через два года – машина, железно. А тут? Фадеич, по сколько нам сегодня закрыли?
– Сколько закрыли – все твои будут, – устало сказал взрывник Фадеич. – Митя, завтра на базу поедешь – взрывчатка кончается. Туда и назад – трое суток.
– Вот жлоб, – сказал оспатый.
– Чего ты? – удивился Фадеич.
– Дай погудеть человеку. Он же пацан, месяц из тундры не вылазит, а ты – трое суток. У него там дружок на базе.
– Ну ладно, пять, – сказал Фадеич. – Но только чтоб точно.
Оспатый подмигнул Мите, растопырил на кулаке мизинец и большой палец, показал:
– С тебя.
– Будет, – весело согласился Митя.
Вечерело. Пустая полуторка, высоко подпрыгивая кузовом на ухабах, вымахнула с замерзшей реки на пригорок, покатила по улице таежного поселка. Поселок был новенький, бревенчатый, весь свежий и желтый от наспех ошкуренных бревен, одноэтажный – он недлинной улицей протянулся по берегу таежной реки. Дальше были видны склады и таежный урман, а противоположный берег был пологим и безлесым, там стояли аэрофлотская изба и дежурный Ан-2, а за ними в тундре торчали иглы нефтяных вышек.
У магазина с ненецкой вывеской «ЛАБКА» был большой щит-плакат «Дадим стране нефть и газ Заполярья!». Здесь же, возле входа в магазин, полукольцом стояли две оленьи нарты, «татра» и два тяжелых гусеничных вездехода.
Гурьянов проехал было мимо, а потом тормознул, круто развернулся и подкатил к магазину.
Магазин был типа фактории – и продукты тут, и промтовары. В продовольственном отделе два ненца и молоденькая ненка оптом закупали и складывали в мешок дюжину батонов хлеба, круги сыра, колбасы, пачки соли. Тут же стояли три русских мужика – один был в унтах, но без полушубка и в черном парадном костюме, нейлоновой сорочке и при галстуке, а двое – в обычном.
– Ну, вы сдурели, ребята, – говорила им продавщица, смешливо прикрывая ладошкой невольную улыбку и заодно отпуская товар ненцам. – Степан Прокофьевич, ну вы, ей-богу, нашли место свататься!
– При чем тут место, Поля? – басил один из сватов. – Ты учти, если ты и Степану откажешь, мы тебя вообще из поселка выселим!
– Толик! – урезонивал его потный от смущения сорокалетний мужик в черном костюме и унтах.
– Да у меня муж есть, ребята, – улыбалась им продавщица и спросила у Гурьянова: – Чего тебе, мальчик?
По-доброму спросила, без насмешки, но Гурьянова это «мальчик» задело все же, поскольку она ненамного старше его была – ну, лет на пять. Он поглядел ей в глаза, сказал с вызовом: