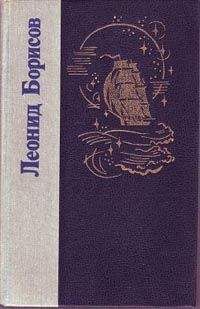Роден в Париже начал когда-то отсекать от глыбы мрамора куски, и через месяц проступили очертания профиля Стивенсона. Однажды Роден чем-то был недоволен, – он с размаху ударил маленьким молоточком по левой мраморной щеке и, крепко выругавшись, кинул молоточек в угол. «Надо начинать сначала, – зло прошептал Роден, – второй раз со мною такое случается…»
«Значит, не судьба, – сказал тогда Стивенсон Родену. – Да мне и не хотелось, чтобы что-нибудь вышло. Боюсь своих изображений, – они неподвижны…»
«Такими мы все будем», – буркнул Родеа.
«Предоставим это природе и освободим искусстве от производства надгробий», – сказал Стивенсон.
«Критика всё равно будет обвинять», – шутливо усмехнулся Роден.
«Обвиняя, она находит свою жизнь», – ответил Стивенсон.
Сегодня у него много причин для того, чтобы не быть довольным критикой. В лучшем случае, почти все статьи о нем бегло или подробно пересказывают сюжет, заявляют о своем личном удовлетворении работой писателя и в конце концов уподобляются учителю литературы, который в классном журнале ставит наивысший балл. В некоторых случаях критика негодует на романтизм, как на школу и течение, и неодобрительно отзывается о книге. Анализ? Его нет. Разъяснение читателям характеров и стиля? Этого тоже нет. Недавно появились статьи соболезнующие, статьи-визитеры, ахающие и охающие по поводу тяжелого недуга, павшего на долю «романтика-скитальца»; некто Джон Хэттер назвал Стивенсона романтиком действия, но ни слова не сказал о событиях на острове. Критик-сноб Чарльз Грахам ополчился на Стивенсона за его «героические выходки лунатика, загипнотизированного Матаафой, живущего отраженным светом, исходящим от тех, кто дергает за нитку эту послушную куклу…». Французы откровенно и декламационно хвалят всё, что написал, пишет и напишет «романтик из Эдинбурга». Америка без конца переиздает. Германия изредка печатает в альманахах – и не в начале, а в соответствии с алфавитом. Россия переводит много, часто и весьма тщательно, и – с трогательной влюбленностью в экзотику – иллюстрирует. Итальянские издатели включили Стивенсона в число писателей, обязательных для внеклассного чтения. Стивенсон безоговорочно признан всюду, но литературные закройщики, номенклатурщики и выдумщики наименований спорят о деталях, мелочах и, как полагается, изрядно врут, не понимая друг друга.
Второго декабря 1894 года Стивенсон проснулся в десять утра и попросил к себе Фенни. Она остановилась на пороге, издали с глубокой скорбью глядя на мужа: он исхудал, высох, казался абсолютно невесомым, чем-то похожим на привидение с обвисшими усами и короткой острой бородкой.
– О, какая боль! – закрыв глаза и вытягиваясь, произнес Стивенсон. – Скажи, дорогая, я выгляжу страшно?
– О нет, – ответила Фенни и, не отваживаясь лгать мужу, резко повернулась и вышла.
Стивенсон потребовал зеркало. Ллойд исполнил его просьбу, но больной не в силах был держать маленькое круглое зеркальце в руках; он уронил его на одеяло и печально произнес:
– Фаса уже нет, только профиль…
– Хорошая шутка, мой дорогой Льюис, – рассмеялся Ллойд, приказывая себе запомнить это предельно серьезное наблюдение отчима.
– Уходи, Ллойд, – сказал Стивенсон. – Я хочу уснуть.
Ллойд передал эту сцену матери.
– Боюсь, что мой дорогой Льюис уже в преддверии вечного сна… Я поеду за доктором, мама.
Бальфур заржал и не двинулся с места, когда Ллойд сел в седло и тронул повод. Бальфур бил копытом по гравию дороги и скалил зубы. Ллойд громко назвал имя его хозяина, и конь навострил уши, повернул голову, словно желая еще раз услыхать это имя. Ллойд назвал его и дернул повод. Бальфур с места взял в галоп, а потом перешел на рысь и спустя десять минут остановился подле дома врача.
Обратно Бальфур нес на себе двух всадников: мистер Чезер сидел позади Ллойда. Стивенсон спал, дыхания его не было слышно. Врач внимательно посмотрел на него, приложил ухо к сердцу. Больной не проснулся. Врач молча посмотрел на Ллойда, Фенни и миссис Стивенсон, пожал плечами.
– Что я могу сказать! – заявил он, садясь за круглый стол в гостиной. – До конца года остается двадцать девять дней. Не думаю, что мистеру Стивенсону удастся встретить новый, тысяча восемьсот девяносто пятый год… Впрочем… я ничего не знаю, ничего не знаю, и не ждите от меня какого-то помилования! Я только врач, только врач…
Глава четвертая
Трое острят
Шнейдер нервничал: представителя Америки всё не было, хотя часы показывали двадцать минут восьмого. Шнейдер сидел в широком, похожем на кровать, кресле, под портретом кайзера Вильгельма Второго. Воинственная, откровенно-театральная поза императора Германии внушала трепет и почтение не одному Шнейдеру, любившему повиновение и солдатскую дисциплину, – консул Великобритании с нескрываемым страхом поглядывал на портрет, морщился и ежился, теша воображение свое картинами сражений, в которых английская армия гонит армию немецкую.
В семь тридцать пришел представитель американского правительства на острове. Он на ходу кинул трость на диван, а затем тяжело опустился в кресло и, подняв ноги, положил их на спинку стоявшего перед ним стула.
– Умирает, – сказал американец, ни на кого не глядя. – При смерти, – добавил он и посмотрел на Шнейдера. – Прислуга у него вышколенная, – обратился он к англичанину. – Молчат, словно воды в рот набрали. Мои черномазые слуги и так и этак – молчат!
– А что, собственно, случилось? – спросил англичанин, пожимая плечами: этому жесту он научился у Шнейдера. – Неспокойный человек умирает, только и всего.
– Этот неспокойный человек причиняет нам хлопоты и неприятности, – дымя сигарой, прошамкал Шнейдер. – Я пригласил вас к себе, джентльмены, для того, чтобы сообщить нашим правительствам о смерти Стивенсона одним и тем же текстом, чтобы…
– Одним и тем же текстом… – иронически, сквозь зубы, едва слышно, произнес англичанин. И громче: – Чтобы…
– Чтобы в одном и том же тексте наши правительства увидели единодушие наше и полное понимание того, что…
– Не согласен, – вспыльчиво произнес англичанин, приподнимаясь с кресла. – Я уже заготовил текст. Вот он – несколько слов: Стивенсон умер, хоронят туземцы.
Шнейдер наскоро записал эти слова, неодобрительно качнул головой. Не понравился текст и американцу; он глубоко вздохнул и побарабанил ногами по спинке стула. Стул заскрипел. Шнейдер насторожился.
– Внимание! – он поднял большой палец левой руки и выпучил глаза. – Четыре слова, придуманные нашим коллегой, дают колоссальный материал для газет. Тут такое можно расписать и напридумать!..
– Я отлично знаю мои газеты, наши газеты, – моментально поправил себя англичанин. – Из смерти они никогда не сделают сенсации.
– У нас, наоборот, сенсацию сделают и из воскресения из мертвых, – отозвался американец и стал хохотать, удивляясь, что делать это ему приходится соло. – Я имею совершенно другой текст – угодно послушать?
– Угодно, – тоном начальника изрек Шнейдер.
– Слушаем, – сказал англичанин.
– Внимание! В ночь на… – здесь я оставляю место – скончался всемирно известный…
– Хватили! – прервал Шнейдер, а его коллега, сидевший напротив, только махнул рукой.
– Да, хватил, – согласился американец, – но, если бы я не хватил, они там назвали бы его бессмертным, У нас на этот счет… Прошу слушать дальше: известный писатель мистер Стивенсон. Похороны принял на свой счет король Матаафа. Здорово звучит, а?
Сперва расхохотался Шнейдер, потом англичанин, а за ним залился, как дюжина колоколов, и американец.
– Для юмористического листка в субботу! – воскликнул Шнейдер, посыпая пеплом сигары свои колени. – Принял на свой счет король Матаафа! Надо же! А я только что, пять дней назад, уплатил по договору этому королю некоторую сумму!
– Львиную долю этой суммы вы получили по переводу из Лондона, – кстати заметил англичанин и даже погрозил пальцем.
– Сотня долларов падает и на мое отечество, – продолжая хохотать, выдавил из себя американец. – Три экземпляра всех наших газет…
– По три экземпляра всех ваших газет, – назидательно поправил Шнейдер.
– Всё равно, коллеги, – все газеты с таким вот извещением будут доставлены королю Матаафе. А чтобы…
В дверь постучали. Шнейдер сказал: «Да!» – и в кабинет шагнул слуга – европеец, лицом похожий на актера. Он встал навытяжку, подобно солдату в строю, и громко отчеканил:
– Положение безнадежное, больной умрет сегодня. В Вайлиме переполох. Слуги плачут. От Матаафы скачут. К Матаафе скачут.
И замолчал. Шнейдер сухо спросил:
– Ну, а дальше? Всё? Твое мнение?..
– Мне очень жаль мистера Стивенсона, – последовал ответ, по интонации совсем не похожий на солдатский, невыразительный рапорт. – Разрешите идти?
– К черту! – крикнул Шнейдер, вскакивая с кресла. – К черту с твоим красноречием! И чтобы я не слыхал подобных глупостей! К черту!