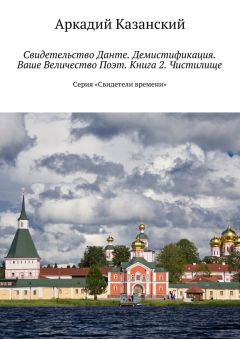Ознакомительная версия.
— Прямо сейчас? При свете дня? Вы в своем ли уме? Известно, какая участь ждет спекулянтов и поку пателей черного рынка! Если поймают, вам конец.
Я смотрю на него с укоризной.
— Не смешно, правда. Причем давно уже не смешно.
— Что не смешно?
Опять этот взгляд, полный непонимания.
— Да весь ваш закос под старину! Думаешь, я не въехала, что это съемочная площадка? А ты актер. Ну да, какое-то время было прикольно, но всему же есть предел. Стоп, снято! Где у тебя ванная?
С прежним недоумением на лице он указывает на жестяную посудину в углу и осторожно спрашивает:
— Вы же не собираетесь всерьез принимать ванну? У меня не хватит дров нагреть столько воды.
Я закатываю глаза. Еще немного — и я взорвусь.
— Ну хотя бы туалет в вашей чертовой реконструкции предусмотрен?
Он подходит к столу и достает из-под него ночной горшок.
И тут я взрываюсь. Хватаю горшок из его рук и швыряю об пол. Он разлетается на куски.
— Прекрати! Прекрати сейчас же! — кричу я.
Амадей смотрит на осколки на полу, затем поднимается и кладет гитару на стол.
— А ведь я вам помог, — говорит он, и в голосе его теперь клокочет ярость. — Спас от преследования. Привел в чувство. Уступил свою постель. И такова благодарность? Убирайтесь вон из моего дома!
— Слушай, прости. Я не хотела…
Но Амадей не дает мне договорить. Он сгребает мои куртку и рюкзак, хватает гитару, открывает дверь и вышвыривает все на лестницу. Затем встает в дверном проеме — ждет, чтобы я ушла.
Когда я начинаю спускаться, он захлопывает дверь. Я сажусь на ступеньки и роняю голову на руки. Здесь холодно. Я ничего не ела. Нужно двигаться, но я боюсь вставать. Вдруг за стенами этого дома восемнадцатый век окажется реальностью?
Но сидеть так до бесконечности тоже нельзя. В конце концов, мне нужно в туалет. Я спускаюсь по лестнице.
Все будет хорошо, говорю я себе. Все будет хорошо.
Все плохо.
В дверях одной из квартир первого этажа стоит девочка. Увидев меня, она начинает плакать.
— Я думала, это папа идет, — говорит она. — Я все жду и жду, а его нет и нет. Его увезли. Пускай папа вернется!
Появляется женщина, затаскивает девочку внутрь и окидывает меня неприветливым взглядом. Я спрашиваю, нельзя ли воспользоваться ее туалетом. Она советует мне ходить на двор, как все. Видимо, здесь общежитие с общим туалетом. А «ходить на двор» — какая-то местная идиома.
Двор оказывается в буквальном смысле двором, с кучей животных, загонов и мальчишек, которые с удивлением на меня глазеют. И насчет общего туалета тоже все буквально. Я нахожу его по запаху. Это дыра в земле за коровником. Я бы предпочла не иметь с ней никакого дела, но у меня нет выбора.
Оказавшись на улице, я начинаю высматривать знакомые ориентиры, но их нет. Тогда я решаю пойти на юг, в сторону рю Риволи, а оттуда двинуть на восток вдоль рю Фобур-Сент-Антуан.
Повсюду, как и вчера вечером, шныряют дети. Попрошайничают, плачут, рыщут по закоулкам, как бездомные кошки. Я прохожу мимо коробейников, лошадей, мальчишек с газетами. Какая-то повозка обдает меня водой из лужи, другая чуть не сбивает с ног. Я останавливаюсь у входа в мясную лавку, чтобы проверить, все ли мои вещи на месте. Это оказывается ошибкой.
— С дороги! — раздается за моей спиной, и в следующую секунду я шлепаюсь в грязь — вместе с рюкзаком и гитарой.
Сверху на меня смотрит мужик. У него на плечах — свиная туша с перерезанным горлом, из разреза капает кровь.
— Я же сказал: с дороги! Вот кретин, — рычит он, уходя.
Люди спешат по своим делам, никто не помогает мне подняться. Некоторые смеются, другие укоризненно качают головами. Женщины все в длинных платьях с фартуками, мужчины — в грубых льняных рубахах, истертых штанах и драных чулках. Они несут корзины, кувшины, буханки. Лица покрыты морщинами, бородавками и прыщами. У многих кривые или гнилые зубы, у других зубов почти нет. И именно сейчас, когда я лежу в этой грязной луже, под этим ярким утренним светом, до меня доходит, что все это — на самом деле. Нет никакого грима, накладных носов и приклеенных шрамов.
Я поднимаюсь на ноги, отряхиваюсь и наконец признаюсь себе, что случилось невозможное — Париж, канувший в прошлое, воскрес на моих глазах. И я стою посреди него в полной растерянности.
— А ну проваливай!
Оборачиваюсь. На этот раз не мясник, а возница. Подобрав свои вещи, я шарахаюсь в сторону, к обочине. Повозка грохочет мимо. Ее высокие борта сделаны из связанных бревен. Внутри сидят люди. Они смотрят в мою сторону, но словно не замечают меня. Они молчат. Некоторые плачут. И я вдруг понимаю, что передо мной — повозка с осужденными.
Я видела такие в учебнике истории. Этих людей везут на гильотину. Вокруг повозки скачут маленькие оборванцы и дразнят приговоренных. Сзади бежит девочка, вся в слезах.
— Господи, почему никто им не поможет? — выдыхаю я.
Прохожий рядом со мной вдруг останавливается.
— Помочь им? — Он сплевывает. — Это ж якобинцы! Они получат по заслугам. С какой стати им помогать? А может, ты тоже из их породы? — Он подозрительно присматривается ко мне. — Может, и по тебе гильотина плачет?
Я решаю, что лучше уйти подальше от него и от повозки. И от всех, кто остановился на меня поглазеть. Сперва я иду спокойно, но потом замечаю, что кто-то двинулся за мною следом, и пускаюсь бежать, отдавшись страху. Сворачиваю в одну улицу, в другую, потом в какой-то закоулок. Спустя пять минут останавливаюсь перевести дыхание.
До меня доносятся голоса, но это уже не погоня, это мальчишки выкрикивают заголовки новостей. Суды и казни. Цены на хлеб. Мятежи. Фейерверки. Зеленый Призрак. Снова Зеленый Призрак! Стража едва не поймала его. Он ранен. Ему удалось скрыться, но люди генерала Бонапарта уже напали на его след.
Я бегу дальше, прочь от этих голосов, и сердце мое сжимается от страха. Словно они кричат не про Алекс, а про меня. Словно это за мной охотится весь город.
Меня мучают запахи. Кофе, жареное мясо, рыба, клубника и сыр. Лук, обжаренный в масле. Бекон. Лимоны. Черный перец. Соленые устрицы. Шпинат. Абрикосы. Запахи сочатся из всех домов и кофеен, набрасываются на меня из чьих-то корзин и с прилавков.
Я возвращаюсь в Пале-Рояль, потому что не представляю, куда еще идти. Теперь я знаю, что такое неразрешимая проблема. Я застряла в восемнадцатом веке. Здесь холодно, темно и льет дождь. Целый день я бродила по Парижу в поисках какого-нибудь выхода в свой мир, но в результате лишь продрогла, вымокла до нитки и обессилела. Я не могу думать ни о чем, кроме еды. Еще никогда в жизни я не испытывала такого голода. Если не считать таблеток и кусочка загадочной дичи в кабаке с Амадеем, я не ела ровно сутки.
Я даже пыталась купить сомнительного вида булку у дочери пекаря. Протянула ей два евро, но она, увидев незнакомую монету, помотала головой. Я стала умолять ее взять деньги, тогда она позвала отца. Вышел пекарь, окинул меня презрительным взглядом и сказал, что надерет мою английскую задницу, если я не оставлю его лавку в покое и не уберусь к черту со своими английскими деньгами. Я попытала счастье у других прилавков — с тем же успехом.
Зато мне удалось немного поспать. Я улеглась под деревом в Булонском лесу, затаив надежду, что все-таки меня глючит из-за таблеток и что я проснусь в своей постели, дома у Джи. Но проснулась я там же, где заснула. Тогда я решила, что мое сознание погрузилось в какой-то спонтанный трип, сотканный из обрывков недавно полученной информации: катакомбы, портрет Малербо, старый Париж с гравюр, дневник Алекс. Я пыталась себя щипать и бить по лицу, чтобы очнуться. Но до сих пор ничего не изменилось. Мне по-прежнему холодно и мокро, хочется есть и некуда идти.
Я мнила себя голодной, когда играла у Нотр-Дама. О, это было ничто! Теперь я испытываю настоящий, животный голод с привкусом смерти. Еще несколько дней без еды и сна — и мне в прямом смысле конец. По моим щекам ползут слезы. В иной ситуации я бы стыдилась своего вида, но здесь никто не обращает на меня внимания. Вероятно, за последние годы тут привыкли к чужому несчастью.
Добравшись до Пале-Рояля, я сажусь на скамейку перед входом. Рядом сидит старик в причудливой одежде. Она не похожа на мрачное тряпье, в какое тут одеваются все. Роскошный наряд, хоть и заляпанный грязью. Такое впечатление, что старик нашел его на помойке Людовика XIV. Но главное — на нем туфли из ярко-красной кожи.
Он говорит, что его зовут Жак Шоссюр. Шоссюр значит «башмак». Надо же, еще один Башмак. Я тоже представляюсь. Жак спрашивает, чем я расстроена. Я смеюсь в ответ:
— Не знаю, с чего и начать.
— С самого худшего, — подсказывает он.
— Очень хочется есть, — отвечаю я. — Просто ужасно.
Он засовывает руку в карман и достает горбушку. Затем разламывает ее пополам и отдает мне половину. Она черствая и грязная, но мне все равно. Я вмиг разделывалось с ней и чуть не забываю его поблагодарить.
Ознакомительная версия.