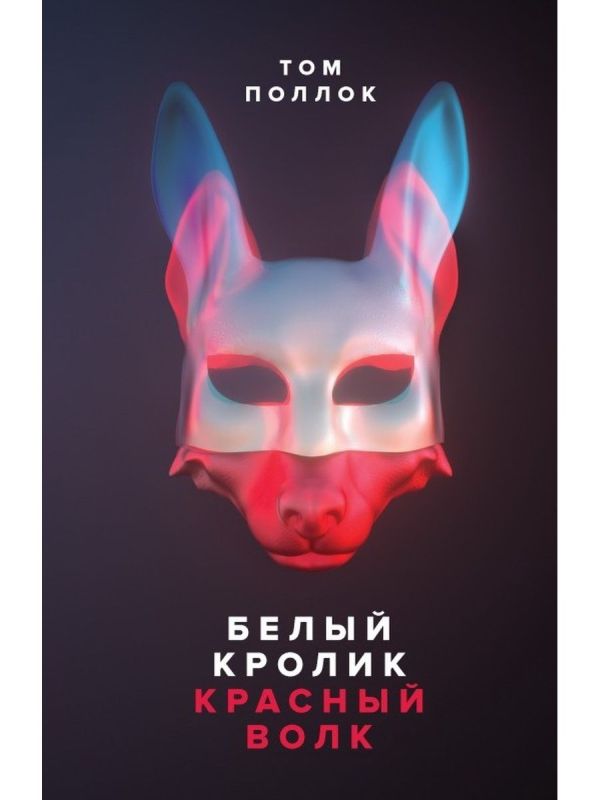Девочки толпились в ванной, наблюдая за Ингрид, пока та скребла костяшки пальцев. Экраны телефонов мерцали, когда ее снимали на видео, но точно ли это были камеры, или девочки просто переписывались? Смеялись над Ингрид или просто смеялись? Голос Тани Беркли отчетливо звучал в моих ушах: «Боже мой, пошел вон отсюда!»
Я, привязанный к кровати в подвале этого самого здания, пока меня допрашивали. Меня связали, а я все равно бросался на них, размахивая руками и щелкая зубами. На меня натянули капюшон потому, что боялись заразиться от меня страхом? Или просто потому, что я кусался?
Ингрид задавала вопросы, но были ли эти вопросы?
Меня вообще допрашивали? Или просто связали руки?
Но мне жгли грудину, опаляя грудь электрическим током, прикрепили проводочки к вискам, к груди…
К груди!
Медленно убираю правую руку с рукоятки пистолета и заглядываю под рубашку. Мои ищущие пальцы находят шрам от ожога, но он кажется старым и гладким, а не свежим и шелушащимся. Я помню дымящийся чайник, переполненную грелку, обжигающую воду, которой мне умывают лицо, и я не могу сказать, вспоминаю я это или воображаю.
Я никогда не мог их различать.
Я кладу дрожащую руку на пистолет. Боль пульсирует от раны в моем плече, и я едва удерживаю голову на весу. То, что я помню, и то, что, как мне кажется, помню, не имеет значения. Все испорчено и разрушено.
Память — это то, что мы есть.
Память несовершенна.
Нельзя использовать одно конкретное воспоминание, чтобы подтвердить другое свое воспоминание, если вы сами знаете, что воспоминания могут лгать вам. Но воспоминания — это все, что у нас есть. Память не может доказать себя, но нет ничего, кроме памяти, на что я мог бы сейчас положиться.
— Шифр. — Мои губы медленно произносят слова. — Инверсия. Откат.
Как в математике.
Я представляю Гёделя, лишенного сил на больничной койке. Мы не можем быть в этом уверены.
Мама улыбается мне.
— Все в порядке, Пит. Все кончено. Не торопись, у тебя впереди еще много времени. Мы со всем справимся. Вместе у нас все получится, как всегда. Только отдай мне пистолет.
Правда или ложь.
Орел или решка.
Мама или Бел.
И никак не узнать, какой выбор правильный, а какой нет. Мне нужно просто его сделать.
— Отдай мне пистолет, Пит. — Она тянет руки вперед.
Пистолет такой уродливый и неуклюжий в моих руках, и внезапно я больше не хочу к нему прикасаться. Я пытаюсь представить себе, как использую его, и просто… не могу.
— Отдай мне пистолет.
Дуло пистолета дергается, и я начинаю опускать его. Я не могу принять иное решение.
Я даже не осознаю, что слышу выстрел, я его просто чувствую. Воздух высасывает из комнаты. Так близко и похоже на удар кулаком. Мамина голова резко откидывается назад и болтается на шее. Красный полосует стену позади нее.
Я разинул рот. Мой палец на спусковом крючке, но… я не мог.
Мой мозг превратился в сплошную мешанину статики. Нет сигнала. Нет четкости. Только хаос.
Из ствола пистолета, который я держу в руке, не поднимается дым. Я вжимаю его в ладонь, но меня так лихорадит, что я не могу понять, горячий это металл или нет. Когда он с грохотом падает на пол, я понимаю. Выстрел раздался у меня за спиной.
Я оборачиваюсь, все еще слыша, как звенит в ушах.
Руки в перчатках без пальцев сжимают пистолет, идентичный моему. Я быстро моргаю, и когда перед глазами проясняется, я вижу копну коротких светлых волос, обрамляющих лицо, очень, очень похожее на лицо Ады Лавлейс.
— Ничего себе.
Ее глаза широко раскрыты, но они серые и пустые, как зимнее небо. Я бросаюсь к ней, ловлю, когда она падает, и опускаю в угол.
— Ты… — начинаю я.
— А ты как думаешь? — шепчет она.
Она выглядит настолько потерянной, что дальше, кажется, некуда. Ее лицо трагичное и безжизненное, и смотреть на нее — это все равно что смотреть в зеркало.
«Зеркало», — думаю я. Черная Бабочка. Она отражает эмоции, желания, но ее собственные желания спрятаны глубже. И подпитываются только от одного источника — человека, с которым она проводит больше всего времени. Ей она только что выстрелила в голову.
Она поднимает на меня глаза. Она всегда знала, о чем я думаю. Поэтому беззвучное «почему?», которое я говорю одними губами, явно излишне.
— Три года прошло. Если ты не доверяешь себе, доверься мне, — говорит она.
— Но там, в доме… — не понимаю я.
Она пожимает плечами и улыбается, но это выглядит натянуто.
— Что-то вроде кризиса веры.
— Мне знакомо.
— Да, я знаю.
Топот ног по коридору движется в нашу сторону. Встревоженные крики.
— Она сказала, что мы одни, — говорю я.
— Солгала, — тихо отзывается Ингрид. — Она часто лгала.
Что бы мама ни делала, но услышать это в прошедшем времени оказывается ножом в живот.
— Доктор Блэнкман! — слышен мужской крик. — Доктор Блэнкман, что с вами?
Дверь трясется и дребезжит, но не открывается. Ингрид, должно быть, снова заперла ее, когда вошла.
Я дергаюсь, когда два выстрела срывают замок. Сапог с глухим стуком врезается в дерево. Желудок подскакивает к горлу, и я бросаюсь на пол, пытаясь нащупать пистолет, но пальцы только отталкивают его еще дальше. Я тяну больные мышцы, и рана в плече сильно ноет. Повинуясь какому-то смутному инстинкту, я резко выпрямляюсь, чтобы оказаться между Ингрид и первым выстрелом.
Но первого выстрела не происходит. Только труп дородного мужчины с короткой стрижкой лежит в коридоре, и моя сестра осторожно переступает через него, как через алкаша на улице.
— Боже, — бормочет она. Она бросает один взгляд на кровать и крепко обнимает меня. Сила в ее руках ощущается как основа всего. — Ты в порядке, Пит?
Я почти смеюсь над этим вопросом. Точнее, это не совсем смех, скорее короткий приступ коклюша.
— Ты поступил правильно, — шепчет Бел.
Не я. Я ничего не делал. Но не говорю этого. Я слишком стараюсь не смотреть на угол, под которым покоится мамина голова, и на кровь, прилипшую к стене сзади. Стараюсь не представлять себе траекторию выстрела, который ее убил. Стараюсь не чувствовать боли в правом запястье, которую может вызвать отдача пистолета. Стараюсь не смотреть на Ингрид, забившуюся в угол, бледную и так похожую на привидение.
Что-то щекочет мне горло сзади, потом царапает, потом впивается когтями. Я начинаю кашлять, глаза слезятся. Пот колет кожу головы и плеч.
— Я устроила пожар, — говорит Бел, и из ее глаз льются слезы.
Она сама кашляет, привычно и резко, но улыбается. Бел всегда любила огонь.
— Зачем?
— Копы. После того как 57 забрали все документы, сюда наконец вызвали полицию. Они ждут нас у входа, так что нужно уходить через заднюю дверь. Огонь должен немного их задержать, но мы должны двигаться дальше. Давай, — она тянет меня к окну и рывком распахивает его.
Холодный, свежий воздух и вой сирен обрушиваются на меня.
— Подожди, — выдыхаю я.
— Пит…
Я вырываюсь из ее хватки и бегу к Ингрид. Она все еще сидит там, где я ее оставил. Дым теперь такой густой, что впивается когтистой хваткой мне в гортань, и я задыхаюсь, но Ингрид не кашляет, а просто смотрит. Я хватаю ее за руку и тяну за собой, но она как восковая, не реагирует. На долю секунды я представляю, как ее охватывает огнем, но она не горит, а плавится, растекается по полу, как свеча.
— Ну что же ты! — кричу я на нее. Она не двигается с места. — Ты мне нужна! Двадцать три, семнадцать, одиннадцать, пятьдесят четыре!
И тут наконец она уступает. Я закидываю ее руку себе на плечи и тащу за собой. Пальцы ее ног скользят по полу, потом она спотыкается и вскоре уже шагает обычной походкой.
— Пит, где ты? — кричит Бел.
Она сидит на подоконнике, свесив ноги через край. Она манит меня пальцем, всего один раз, а затем отталкивается и падает вне поля моего зрения, и у меня на секунду останавливается сердце.