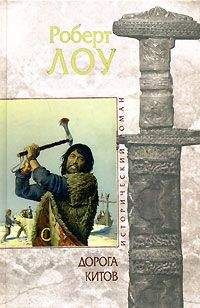Ознакомительная версия.
Многое, однако, забывается человеком. Даже любовь, клятвенная месть, даже радость исполненной мечты и раскаяние похмелья, и уж тем более испаряются с зеркала памяти случайные интересы, краткосрочное любопытство, разрозненные впечатления. Вот и в жизни Михаила, в суетности ее, затерялся на периферии сознания былой спор, заключенное пари между Андрейкой и Иваном, где он, Михаил, был в то время третьим, непременным действующим лицом. Так уж складывалось, что и в Рубежнице, куда он наведывался к матери неизредка, не подгадалось свидеться ни с Андрейкой, ни с Иваном. И все же одна встреча напомнила об их споре. С Натальей.
Стояло раннее лето, и что-то первозданное, свежее присутствовало еще во всем, словно по инерции от весны. Тогда и надумал Михаил – то ли для разнообразия жизни, то ли под влиянием ностальгических мотивов из детства – выбраться на пруд на рыбалку, поудить. Приготовил снасть, накопал червей и в сумеречную рань, когда восток едва тронуло заревное золото, отправился по росе к речке.
Мечты об ушице не сбылись: сидел на берегу, истово пучил глаза на мертвый поплавок, менял червей, плюя на них и плюя мимо них от досады. Даже сопливого ершика не вытянул, не заманил! А когда небосклон над прудом заполонило солнечным светом, так, без единой поклевки, Михаил засобирался назад. Тут он и увидел, а чуть позже повстречал на пути к пруду семейство. Женщина и двое ребятишек – девчушка да мальчуган, годков по восемь-девять, может, погодки, ростиком вровень – тянули за лямку продолговатую тачку на велосипедных колесах; в тачке – жестяная ванна и таз, загруженные бельем. Михаил сперва и не признал Наталью. Была она в туго повязанном платке, наглухо спрятанными под этим платком волосами, в сером рабочем халате и резиновых высоких сапогах. Она первая узнала Михаила, заулыбалась:
– Белье едем полоскать. Мать меня с детства приучила полоскать на пруду. Там раздолье. Дома разве так прополощешь!.. Младших своих в помощники взяла. Правда, толку-то от них не больно, зато не скучно... Ты чего так на меня приметно смотришь? Постарела, поди? Давно не встречались-то.
Поговорили о самом будничном, бегло, и хоть ничего не вспомнили о своей школе, о своем классе, все же как будто на минутку присели на предпоследнюю парту в том далеком седьмом «Б», когда классная дама определила их сидеть вместе.
– Покатим мы, – усмехнулась Наталья, добродушно закругляя разговор и запрягая себя и русых помощников в повозку.
Но Михаил задержал ее вопросом: «Иван-то как?» И не хотел, чтобы двусмысленно получилось, а все равно в подтексте звучало: «Не пьет?»
– Ничего Иван. Слава Богу! – коротко и настороженно отозвалась Наталья, словно побаивалась: не сглазили бы мужа. Однако поговорить о нем все же решилась и после нескольких фраз даже приоткрыла – голосом потише – тайну: – Я той бабе, которая его закодировала, каждый раз, как в церкви бываю, свечку ставлю. Хоть, может, она и веры чужой. Кабы не она, не знамо, как бы мы с четырьмя детями перебивались. Разве стали бы держать Ивана в мастерской пьющим? Кругом сокращения, безработные... Я не знаю, как у вас в городе, а у нас в поселке не житье становится, а мытарство. Люди отруби едят, свеклу с хранилища воруют. Старухи говорят, в войну легче жилось. Пусть голоднее, но легче: народ-то дружней был. А теперь каждый поодиночке бьется... А случись: Иван без работы, – горе! Я каждый вечер сижу и боюсь. Жду его с работы и боюсь. Вдруг начнет? А увижу, что он трезвый идет, петь охота... – Она улыбнулась, открытая и еcтественная в своей бабьей радости. – Теперь, Михаил, у меня одна задача, чтоб Ивана на второй срок к этой гипнотизерше отправить. Поедет ли вот?
Михаил дружески успокоил, что Иван, пожив теперь «без водочного одурмана», согласится и на другой срок «на гипнотизершу».
Уходя от пруда, Михаил несколько раз оборачивался на Наталью, наблюдал, как она со своими младшими, сыном и дочуркой, тащит горку поклажи. А потеряв их из виду, он представил, как Наталья, склонясь на мостках, будет полоскать белье, дергать его туда-сюда, выкручивать, отжимая, встряхивать и браться за следующее, – на большую семью. А потом, наработавшись, она распрямится в полный рост – аж до хруста в пояснице, – оботрет пот с лица, приструнит детишек за баловство и брызганье и, вздохнув, улыбнется, глядя на утекающую из-под ног золотую рябь воды, на которой разлито солнце... Да, может, и неспроста появилась у него, у Михаила, эта странная уверенность, что Наталье в жизни наверняка повезет: есть в ней истинный устой и ясность, и достоинство в ней и простота, как у березы в поле, как у свечи пред иконой Богоматери, как у звезды в прозрачном полуночном небе.
Возвратясь с бесплодной рыбалки, Михаил весь день прослонялся по дому, по двору, по огороду, и ни к чему не мог приложить руки, курил, бездельничал, о чем-то рассеянно думал, а с матерью разговаривал ласковее и теплее обыкновенного, хотел ее потешить, окрасить ее старушечью одинокую вдовью жизнь.
Но давненько это уже было. Нынче вон уже осень. Опять осень! Следующая, очередная.
И все же нет! Нет! Мало забывается человеком: все на нем – след, все – отметина, все – отпечаток!
Осень выдалась яркая, сухая, и на пересадочной станции, куда Михаил только что прибыл с электричкой из города и откуда отбывать ему с теплушкой до родной стороны, его радовало обилие солнечного блеска на стеклах станционного здания, ровная, густая, не оборванная дождем и ветром желтизна придорожных тополей, до цыганской смуглоты загорелое лицо пастушонка, который шумно гнал через переезд маленькое козье стадо.
Теплушка уже стояла на станции, готовая к посадке, с открытыми дверями, но до отправления ей – больше часа. Теплушка совершала челночные рейсы – туда и оттуда – и недавно пришла из Рубежницы; Михаил уже успел кивнуть головой нескольким знакомым; здесь, на этой узловой станции, всегда происходила встреча-разлука едущих в поселок и уезжающих из него.
Чтобы до отправления не томиться в вагонной духоте, Михаил обогнул вокзальчик и по песчаной тропке пошел к близкому березняку: посидеть в тени на траве, прислонясь к белому стволу, переждать время. Тут, на опушке этой березовой рощицы, уже расположилось несколько человек, тоже из ожидающих своих рейсов пассажиров: кто сидел небольшой компанией, кто – поодиночке. Проходя мимо одного из таких, взгляд Михаила будто что-то цапнуло – абсолютно незабвенное, резкое, хотя, в сущности, пустяк-пустяком.
Под березой, возле тропки, неподвижно сидел мужик, отрешенно сгорбившись, с опущенной головой. Сам по себе он ничем не выделялся: одет в обыкновенный, невзрачно-темный пиджак, склонился, дремлет, кажется, устал в дороге человек. Рядом с ним, по одну сторону, – это Михаил разглядит чуть позже, – стоял на траве початый шкалик водки, стакан, а на газетке – нехитрый натюрморт из расхожей буфетной закуски. По другую же сторону – что и важно! – чемодан в мелкую серую клетку, с металлическими уголками и германской переводной наклейкой, на которой беловолосая фрейлейн с букетиком фиалок. «Та самая! Она!» – замер Михаил, повинуясь безошибочности своей зрительной памяти. Михаил подошел к мужику поближе, зорче всмотрелся в блондинку-немочку на картинке и, удостоверившись безоговорочно, вежливо сказал, что чемодан ему этот известен. Незнакомец сперва как бы не услышал – не сразу, не спеша поднял голову. Но никаких объяснений Михаилу уже не потребовалось: да это Николай, Иванов брат! Их единая порода сразу видна, многие черты сличать можно; да и знаком он ему уже опосредованно. Только Николай безбородый и постарше. Лицо у него сейчас было утомленное, глаза с красниной, будто не спал сутки.
– Я не с чемоданом, а с сумкой приезжал. Новая сумка-то, старшему племяннику подарил, ему уж больно приглянулась, в ПТУ ходить. А чемодан мне Наталья дала. Ивана чемодан, он с ним из армии пришел, в Германии служил, – негромко говорил Николай.
Михаил опустился рядом с ним на траву, хотел спросить, долго ли он гостил в Рубежнице, что нового у Ивана, однако вопросы эти оказались невостребованы: Николай молча налил в стакан водки и протянул Михаилу:
– Помяни-ка брата. Я ведь на похороны приезжал. Ты, похоже, с Иваном-то знался...
Михаил машинально взял стакан и даже машинально понес его ко рту и только тут, только в этот миг, внутренне содрогнулся и опамятовался. Его потрясло не столько известие о смерти Ивана, о причинах которой он еще ничего не слышал, а воспоминание о своей сумасбродной, нелепой, давней уверенности, что Наталья должна быть в жизни непременно счастлива. Да с чего бы это! Да в кои веки русской бабе, крестьянке-труженице, отламывалась лакомая жизнь! Кто для нее такую приготовил? Вихрем невыразимой досады пронеслись эти мысли, когда пил Михаил эту поминальную – самую горькую – водку.
– Иван-то все два года продержался. Не пил, – тихо заговорил Николай... Да, все два года Иван не согрешил ни единой каплею, поборов свое хотение, придушив в себе тягу к этой дикой анестезии русской жизни, он всегда мучительно помнил, что закодированный... И Андрейка, дьявол Андрейка, оказавшись в проигрыше, выставил неминуемую наградную литру. Все произошло в пивной, в той самой рубежницкой пивной, где когда-то Андрейка грозился перед Михаилом одолеть своего «супостата», за которым неусыпно следил, кого норовил сбить с панталыку, над кем хотел позубоскалить при ненароком случившемся срыве.
Ознакомительная версия.