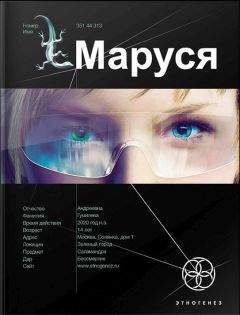Два раздела в этой книге, всего два: «Миллион терзаний, миллион» и «Жить от противного все же есть способ». По поводу первого хочется сказать, что, видимо, терзаний нигде не меньше, но наш миллион, на котором сосредоточен поэт («не Марсель это шумный, не праздный Версаль, а всего лишь Торжок или Клин»), — российская провинция с приметами вечной разрухи и неисповедимой любовью к непогоде, к рябине («кисть рябины под шелест дождя»), вполне банальной любовью. И все-то дело в разнообразии непредвиденных поворотов чувства: «И вы мне не нравитесь: / атомный вы, / какой-то не чистый, не гуманитарный. / Я в новый хочу, но билет — до Москвы. / А все еще — едем… А все еще — Сарны…»
Что касается «жизни от противного», то она тоже не слишком оригинальна и тем более удивительна способами, которыми манифестируется. «Мозаика фактов по мне такова, / что было бы глупостью не усомниться / в способности и самого божества / отстаивать толком свои же права / и взгляды свои, невзирая на лица». В этих понятных сомнениях самое, пожалуй, утешительное — музыка. Она, как радио в деревенском доме, никогда не выключается и присутствует то голосами Бернеса и Утесова, то вдруг является совсем другими именами и ракурсами: «Сказал бы я: музыка есть, Берлиоз…» — или: «…вот и гибнет соперница рая, Дон Кихота земля, Дебюсси». Но главным образом это «музыка из ниоткуда», о которой мы уже заявили в самом начале названием этих заметок, музыка стиха, настоянная на «семантике метра» великих предшественников, музыка «для тонкого слуха», возникающая из ритмов, фонетики, рифм и просто из воздуха — «оттого, что ты дома, что грустен твой смех…».
Все имеет оборотную сторону. К каждому достоинству прикладывается недостаток. Только в искусстве случается, что отсутствие какого-то положительного качества смотрится неожиданным приобретением. К поэтике Ивана Дуды есть претензия: нет лирического героя — персонажа, с которым охотно идентифицирует себя читатель, — и может показаться, что книга Дуды слишком описательна, не хватает в ней участия автора в каких-то событиях знакомых, запоминающихся. «Не хватает концентрирующей внимание сюжетности, что ли, конкретной ситуации, когда все многообразие слов и образов работает в конце концов на ее разрешение. Так в поезде можно часами смотреть в окно под стук колес… но после не за что зацепиться, чтобы восстановить что-то отдельно…» — написал из Омска по поводу «Разлинованной тетради» один поэт, человек тонкий и одаренный.
Я думаю, что это как раз тот случай, когда внесение лирической персоны лишило бы стихи индивидуальности — как ни странно. Своеобразие их держится на этом отсутствии. А лирический герой — вовсе не непременное условие лирики. Его отсутствие появилось, если можно так выразиться, две тысячи лет назад. «Он почти никогда не пользуется местоимением „я“, избегая таким образом вездесущего эгоцентризма, который был несчастьем как его современников, так и преемников… Он напрочь лишен нарциссизма, неосознанно демократичен и чрезвычайно смиренен. Вот почему в его строках нет априорного поэтического апломба, и вот почему его будут читать в следующем тысячелетии, если, конечно, оно наступит» (Бродский о Вергилии).
Лирического героя нет, но автор-то проявил себя так искренне, так полно (и так нежно), как дай вам Бог, всем другим. Иван Дуда — человек мягкий, застенчивый, свой ум выказывающий как бы по необходимости, живущий нелегкой жизнью, любя ее «от противного» тайной, запретной любовью.
И вообще человек из толпы, каким предстает перед читателем поэт, более, чем кто-либо и что-либо другое, может противостоять человеку толпы, несущему нынче такую серьезную опасность для общества — будь то безумный футбольный болельщик, рок-фанат или яростный защитник исламского фундаментализма. Проблема сохранения индивидуальности стоит перед человечеством, может быть, как никогда прежде. В этой связи вопрос: «С кем вы на рынок Торжковский идете, / кто эту жизнь комментирует вам?» — вписывается в ряд самых насущных, недалеко отстоящих от начального «быть или не быть?». Я надеюсь, что читатель, столкнувшийся с ним на 52-й странице книги Дуды и прочитавший его с той интонацией, которая продиктована предшествующим текстом стихотворения, почувствует в авторе собеседника, с которым не хочется расставаться; легко помещающиеся в сумке, в портфеле, в кармане плаща «Фрагменты» — грустный и утешительный комментарий жизни.
…Ах, взбалмошной юности грех не осудим,
присмотримся к ивам плакучим, к туману,
к убогим заведомо будням, мы — люди,
мы — люди, Мария, так мнится Ивану,
не смей же, не всхлипывай больше, не стоит
распугивать звезды ночные, гляди, как
цветы наши грустно поникли, левкои:
сорвавшему голос уже не до крика.
Елена НЕВЗГЛЯДОВА.
С.-Петербург.
Глубина неподвижности
Галина Гампер. Что из того, что лестница крута… Книга лирики. СПб., Издательство «Журнал „Нева“», 2002, 208 стр
Булат Окуджава писал во вступительном слове, предварявшем сборник избранных стихотворений Галины Гампер «И в новом свете дождь и в старом свете» («Пушкинский фонд», 1997): «Конечно, любому поэту приятны добрые слова в свой адрес, но если они отсутствуют — он все равно продолжает жить по велению Предназначения. Он знает, что не ему определять свое место в поэзии. Это совершит Бог — когда-нибудь потом, потом… Я с волнением прочитал стихи Галины Гампер и убедился в том, что передо мной — поэт, а не стихотворец, что она — верный слуга своего предназначения, что, знакомясь с ее рассказом о себе самой, о ее нелегкой жизни, я соучаствую, сопереживаю и, самое удивительное, раздумываю о собственной судьбе».
В этих словах Окуджавы, кроме безусловного признания поэтических заслуг, есть еще и неявное извинение — за то, что «добрых слов» в адрес поэта Галины Гампер досталось не слишком-то много.
Я попытался поискать в Сети отзывы на ее стихи и вынужден констатировать, что их действительно не много. Основной тон упоминания Гампер — перечислительный. На питерских писательских собраниях: «Даниил Аль, Андрей Арьев, Галина Гампер, Нина Катерли, Александр Кушнер, Самуил Лурье, Леонид Семенов-Спасский, Владимир Уфлянд, Илья Фоняков». Или, скажем, в передаче «Памяти Германа Плисецкого» на радио «Свобода» <http://www.svoboda.org/programs/OTB/2001/OBI.052001.asp>:
«Смолоду он был окружен замечательными людьми. Фазиль Искандер и Белла Ахмадулина, Андрей Битов и Юз Алешковский, Юрий Олеша и Юрий Домбровский, Николай Глазков и Глеб Семенов, Владимир Соколов и Геннадий Снегирев, Нонна Слепакова и Галина Гампер …» Здесь Гампер предстает как статист из массовки. Конечно, дай Бог каждому в такую массовку попасть, но все равно: имя Галины Гампер как бы не в фокусе.
Анонимный автор аннотации к рецензируемой книге сразу бросается поэзию Гампер защищать от каких-то неведомых, но крайне зловредных и недалеких критиков: «Несмотря на традиционность формы, стихи Галины Гампер по праву занимают место в ряду новой поэзии. Ибо новизна в поэзии — отнюдь не экспериментальность, не левизна ради левизны, а просто жизненное, душевное событие, встретившееся с вдохновением». А я-то по простоте душевной думал, что «талант — единственная новость». После такой рекомендации самое правильное движение — книгу закрыть. Откуда это «несмотря на традиционность»? Разве традиционность — это непременно старо и плохо, а экспериментальность — хорошо? О какой «левизне» идет речь? И что такое «душевное событие»? Что-то типа: взяли по маленькой — душевно посидели?
Никогда не разговаривайте с незнакомыми и никогда не читайте аннотации.
В автобиографии <http://www.litcenter.spb.ru/writers/gamper.html> Галина Гампер пишет:
«Родилась перед самым началом Великой Отечественной в городе Павловске. Стало быть, недаром до сих пор павловские холмы, пруды, куртины, петляющая Славянка — любимейшее место…
Заочно, дома (болезнь с детства и навсегда приковала меня к инвалидному креслу) закончила английское отделение филфака ЛГУ…
Первое стихотворение я написала на спор со своим приятелем, было нам тогда по одиннадцати лет. То есть начались стихи как бы волевым актом, продлилось бы так и впредь, ан нет. Они стали заходить когда им заблагорассудится, чаще ночью, и тогда я в блаженном бреду сочиняла и переделывала, доводила до того совершенства, на которое была способна… Вскоре у меня появился судья, поэт, вкусу которого я верила безоговорочно, это был Лев Савельевич Друскин. Позже в моей жизни большое место занял Глеб Сергеевич Семенов, учитель почти всех ленинградских поэтов-шестидесятников от Кушнера до Сосноры, от одного полюса до другого. Заботами Глеба Сергеевича некоторые занятия его литобъединения проходили у меня дома (благо жилье мое к тому времени стало просторней), это быстро ввело меня в литературный круг. Одиночество кончилось, стены разомкнулись.