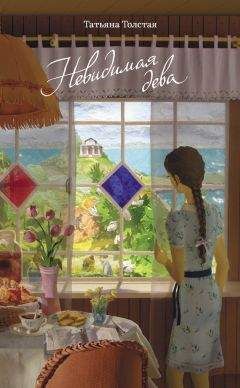Ознакомительная версия.
Тетя Леля входила на кухню, где няня с Марфой пили чай.
«Могу ли я почистить морковку над раковиной?» – из вежливости спрашивала тетя Леля, хотя чего тут спрашивать, возьми да почисть.
«Уж не знаю», – отвечала Марфа достаточно тихо, чтобы заставить врага переспросить: «что?» – а самой с удовольствием не ответить. Вот тетя Леля-то и в дураках, вот она и посрамлена, ага.
Не дождавшись внятного ответа, тетя Леля разворачивалась лицом и слуховым аппаратом к раковине и совсем переставала слышать. Народ оживлялся.
«А вот дать тебе этой морковкой в нос!» – с вызовом говорила няня. – «Уж и нос!» – перехватывала тему Марфа. – «Носок – с двадцати пяти досок! Кабы мне б такой носина, я б по праздникам носила!»
И они дружно, громко хохотали, и тетя Леля, спиной ощущая вибрацию, понимала, что это над ней, и я, вертевшаяся под ногами – ради меня морковка и затевалась – не знала, что и чувствовать. Не для маленького ребенка этот спектакль.
Справедливости ради замечу, что, объединенные классовой злобой против тети Лели (шуба, духи, слуховой аппарат), против гулятельной Маляки (шляпка, перчатки), против Елизаветы Соломоновны и Эмилии Францевны, няня и Марфа и друг друга не любили, шипели и переругивались. В их народном мире все было непросто, все не прямолинейно, все асимметрично.
Наблюдать народ означало наблюдать древний мир с его сырыми страстями, рабской преданностью хозяину, лютой ревностью к любому, кто пытался завладеть долей внимания господина, удушающим гневом – таким зримым, что он непременно должен был персонифицироваться в виде какого-нибудь специального божества. Не исключаю, что так и было, что нянины думы и задавленные страсти являлись ей в виде каких-нибудь божков, но Царица Небесная была милосердна, благосклонна, добра, она послала к няне своего возлюбленного Сына с военным приказом на всю жизнь, и няня как могла подавляла в себе языческие порывы, лишь изредка позволяя себе обращаться к ларам и пенатам по поводу засилия тараканов.
* * *
«У птицы есть гнездо, у зверя есть нора», – если бы няня знала эти стихи, она повторяла бы их, они были бы созвучны ее жалобам: «Нет у меня своего угла, не дает Господь. Как своего угла хочется!» Мне это было непонятно: как так нету, ведь нянина кровать как раз в углу и стоит, а моя – в другом углу, ну а Шуркина, та – да, та посреди комнаты, и Шурка ходит в ней в своих ползунках, держась за прутья.
О своем угле мечтало пол-страны по баракам и коммуналкам, но у няни и у Марфы и коммуналки не было, совсем ничего.
Няне – захоти она устать и уйти – пойти было бы некуда, потому что ее дом, избу в деревне Плюсса под Лугой сожгли немцы. Да никто в своем уме и не вернулся бы из сытой питерской квартиры в полуголодную деревню, туда, где плакали от счастья, получив в подарок сношенную городскую обувь.
Марфу звали Марфа Кононовна Козырева, – Марфконна. Откуда она пришла, я не знаю. У нее тоже была какая-то родня в деревне, и она время от времени, побившись в очередях, добывала дрожжи, уж сколько их там давали «в одни руки», и посылала их на родину.
– Марфконна! Зачем им столько дрожжей?
– А самогон варить!
– Марфконна, это же запрещено!
– А пить-то надоть!
Она была беззубой, худой, высокой и жилистой; маленькая желтая голова ее всегда была повязана коричневой штапельной тряпицей, – ну, повязана и повязана. Но как-то раз видели, как она размотала тряпку, и обнажилась совершенно лысая голова, на которой там и сям, как позабытые нитки, располагались отдельные одинокие волосины. Еще кто-то из старших сестер, дернув плохо запертую дверь уборной, застал Марфконну писающей стоя, что тоже явилось потрясением.
Тут же старшие придумали, что Марфа – мужчина, а зовут его Конон, и он скрывается в нашем доме, потому что в его прошлом – темные пятна. Старшие читали Конан Дойля.
Марфконна жила в кухне и в комнаты без надобности не входила.
Встав у притолоки в столовой, не переступая порога, спрашивала маму: «Суп женить будем?» Женить означало разбавлять загустевший вчерашний суп кипятком, чтобы супа стало больше.
«Ну давайте, что ли, разбавим…»
«Хы-ыххх! Хозяин русский, а суп – жидок!» – шутила Марфа.
Целый день проводила она у плиты, а еще ходила по магазинам, варила белье в зеленом тридцатилитровом котле, таскала в мешке дрова из подвала. Вот она вваливается в дверь, согнувшись, шатаясь, дерюжный мешок за плечами; с грохотом сваливает дрова на пол; в дверь за ней входит морозный пар – на лестнице холодно, и нас гонят из коридора.
Дрова нужны для дровяной колонки в ванной: коричневая, круглая, она нагревала и воду, и комнату. Еще воду грели на плите на кухне, Марфа таскала ведра и тазы. Через ванну перекидывали доски, на них ставился коричневый, как колонка, эмалированный кувшин для ополаскивания, пузырь с жидким дегтярным мылом; разложены были мочало – то, которое на колу, – и жесткая люфа.
Все это Марфа презирала – моются в своей грязи – и сама ходила париться в баню, – туда, выше по Карповке, к монастырю Иоанна Кронштадского. Она вообще нас презирала, не любила, я это чувствовала. А зачем ей было нас любить? Она не была членом семьи, как няня.
Няня спала в комнате с детьми, а Марфа – на кухне, в комнате для прислуги. Фомин и Левинсон решили, что трех квадратных метров для прислуги хватит. Много ли человеку земли нужно? Для красоты они проделали в стене длинную прорезь – лежачее конструктивистское окошко.
В комнатку вмещалось узкое ложе на одного высокого жилистого человека, – будь то беглый Конон или неласковая лысая Марфа, – круглый стол и белый буфет. Еще там был встроенный в стену шкаф, набитый скатертями, запасными столовыми приборами и всяким полезным хламом. Из шкафа, если распахнуть дверцу, вылетал одуряюще прекрасный запах сушеных грибов – они там тоже хранились, нанизанные на нитку.
Все это отделялось от кухни раскладными фанерными белыми дверями. На ночь двери затворялись.
Ничего своего у Марфы не было, только чемодан. Ничего ей не принадлежало, – ни шкаф, ни буфет, ни стол, ни кровать. Ей принадлежало лишь пра– во лежать ночью горизонтально, угрюмо глядя на конструктивистскую оконную щель, мутно-белую в июне, черную – в январе. У других и того не было.
Няню утром ждали дети – розовые, хмурые, теплые, заспанные. Марфу – котлы, дрова, авоськи, дуршлаг, фарш. Каждому свое, золотко. Такая наша планида.
Свое утешение у Марфконны, впрочем, было: на протяжении многих лет она утаивала от мамы, что майонезные баночки тоже имеют залоговую цену, – мама это как-то упустила из виду, витая в облаках. Майонезная баночка стоила три копейки, пол-литровая банка из-под томатного соуса, который и няня и Марфа упорно называли просто «красный», – пять. Литровая – десять. Молочная бутылка – пятнадцать копеек. Сколько давали за трехлитровую банку, даже подумать страшно, но ее как раз никто бы и не сдал, она была нужна для варенья и для маринованных грибов.
За бутылки Марфа отчитывалась, а за майонезные-то баночки – нет. Прикарманивала сдачу. Думаю, за годы у нее образовался хороший припек к зарплате, составлявшей, вроде бы, тридцать рублей.
Няня тоже получала тридцатник. Но у нее все время занимали деньги, а потом и вообще забыли платить. Так она и жила без денег, на одну «пензию». Когда же ей платили, она упорно тратила эти деньги на нас же: скупала крупы, горох, сушила черные сухари и прятала в наволочках по шкафам, – а Фомин и Левинсон понаделали много встроенных шкафов, в каждой комнате по шкафу. Мама все время натыкалась на нянины заначки; помню, как она открыла дверцы белого кухонного буфета, и там стопкой, словно десертные тарелки, лежало штук десять ватрушек. Ватрушка стоила много: пятьдесят две копейки.
– Няня! Ну что ж ты делаешь, этого же никто не съест!
– А если война? – сердито говорила няня.
Они были во всем противоположны, и телом, и духом: няня – маленькая, пышноволосая, надежная, верная; ради детей она проползла бы тысячу верст, кормя их кусками своего тела; Марфа, я думаю, – живи мы в 1918 году – перерезала бы горла спящим, подожгла бы квартиру и, бесшумно перекинувшись через забор, бежала в степи, в овраги, к махновцам, на юг, выбросила бы головной платок, выбросила юбку, натянула штаны, обрила бы десять волосин с желтого своего черепа, в одно ухо вставила бы цыганскую серьгу, сделанную из папиной запонки, и гуляла бы по-вдоль бывшей черты оседлости, громя еврейские местечки и прославившись как Конон-каин, пока не нашли бы в овражке ее окоченевший труп с торчащими, вытянутыми, сухими лошадиными ногами.
Ознакомительная версия.