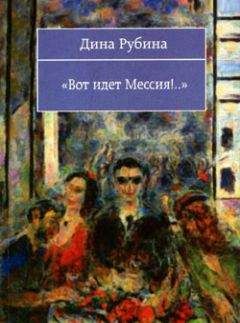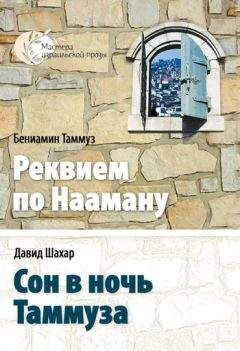А еще через секунду за ее спиной завизжали, заголосили женщины. И раздался выстрел.
* * *
– Доброе утро. Радиостанция «Русский голос» ведет свои передачи из шестой Иерусалимской студии. Прослушайте обзор последних событий, который подготовил для вас Вергилий Бар-Иона.
– Здравствуйте! Нидаром паэт очень метко выразился аднажды: «Настанит час крававый, и я паду!» Крававый час настал вчера в известном иерусалимском ресторане для репатриантки из Рассии, каторую случайным выстрелом убил салдат срочнай службы, также русский репатриант. Ракавая ашибка праизашла в тот мамент, кагда жительница арабскай диревни Бани-Наим, что на севера-вастоке от Хеврона, бросилась с нажом на упамянутую жертву, как точно заметил классик – «Пад гнетам страсти ракавой».
Нет сил, нет сил его слушать. Скорее, выключите радиоприемник и больше не включайте его никогда. Вот я расскажу, как все оно было.
В уборной ее и вправду вырвало – от страха. Она постояла, держась за стену, отдышалась. Домой возвращаться было нельзя. Она закатала платье, вынула из-за пояса нож и выглянула наружу. Коридор был пуст. Где-то на другом его конце, в кухне, в чаду суетились и перекрикивались официанты и повара. Каждую минуту кто-то мог оттуда появиться.
В проем ведущей на террасу двери она увидела за ближайшим столом женщину в открытом платье, которая сидела к ней спиной и смеялась тому, что шептал ей на ухо сухощавый человек, похожий на доктора, хирурга, что нынешней весной вырезал отцу грыжу. Но тот был в белом халате, а этот – в сером свитере. И он так приблизил лицо к плечу своей женщины, – а то, что она была его женщиной, не вызывало сомнений, – как будто встретился с ней после долгой разлуки.
И та смеялась и наклоняла шею так послушно, так удобно, словно просила об ударе…
Девушка сжала оцепенелыми пальцами рукоять ножа, выскочила на террасу, судорожно вскинула руку и – не выдержав напряжения – вдруг сама завизжала, заверещала, будто не она должна была всадить нож в другого, а ее резали.
Все повскакали с мест, поднялся ужасный гвалт.
Зяма обернулась и увидела за спиной визжащую, как от боли, арабку с ножом. И этот всеобщий, ни во что не выливающийся, нестерпимый окаменелый визг, длящийся бесконечно крик ненависти, простертой над этой террасой, этим городом, этой землей, невозможно было вынести более ни мгновения. Одновременно в свалке на выходе боковым зрением Зяма увидела длинного «джобника», вскинувшего винтовку. Тогда она вскочила, опрокинув стул, и сильным аккордом на fortissimo «от плеча» швырнула девушку на пол.
Шмулик выстрелил.
Он выстрелил наконец.
Все-таки он был лучшим ночным стрелком в роте…
Ибтисам Шахада, жительница арабской, как верно замечено, деревни близ Хеврона, лежала на полу, судорожно и бессмысленно обнимая упавшую на нее женщину. Арабка была залита кровью – и это спасло ее от немедленной расправы: обезумевшие люди думали, что она ранена. Кровь сильными горячими толчками все лилась и лилась на нее, ей не было конца, можно было захлебнуться этой кровью…
Во всеобщей свалке истерично плачущих женщин и беспорядочно суетящихся мужчин неподвижными оставались двое: муж погибшей и известная писательница N.
Этот немолодой человек повидал на своем веку достаточно колотых, резаных и пулевых ранений. Старый хирург, он – по бурному извержению крови – понял мгновенно, что минуту назад, на этой террасе, потеряла всякий смысл его дальнейшая жизнь.
А писательница N. почти завороженно глядела на лежащую в трех шагах от нее, убитую Шмуликом, героиню своего романа. Того романа, дописать который у нее уже не достанет ни жизни, ни сил.
Через минуту приехали машины полиции и «амбуланса», и девушка по имени Ибтисам Шахада была спасена навсегда.
Братья не убьют ее.
Велик Аллах, они ее не убьют.
…А та, другая, медленно входила в родниковые воды Иерусалима, опускалась все глубже, раздвигая толщу их лодыжками, коленями, животом и грудью. Наконец погрузилась с головой и, раскинув руки, поплыла на спине к лестнице, где между глиняными амфорами уже встречал ее под виноградной лозой живой и радостный дед. Он был почему-то бос, но чисто выбрит, и красиво улыбался своей новенькой вставной челюстью.
– «Отряхнись от праха, встань, воссядь Ершолойм, – проговорил дед тоном, каким обычно произносил тосты на семейных торжествах. – Развяжи узы на шее твоей, пленная дочь Сиона!»
«Теперь и я – Ершолойм», – поняла она, погружаясь все глубже в эти восходящие пузырьками со дна грозно-веселые воды, жадно глотая их, заполняя ими легкие. И когда они проникли в каждую пору ее души, она вдруг все поняла.
– Деда, – спросила она изумленно и счастливо, – Деда, ты – Машиах?
– Ну Машиах! – сказал он. – Ай, мамэлэ, встань, не валяйся, я так рад тебя видеть!
…И она поплыла над старыми ржавыми холмами Самарии, в молодом родниковом небе, между желтыми отмелями облаков. Чтобы через мгновение вынырнуть, очнуться и воочию узреть, как изо всех сил пляшет перед Господом Машиах, – опоясанный льняным эйфодом, красивый человек из дома Давида…
* * *
Мне нравится эта женщина… Как любил повторять ее муж: «Зяма, вы мне нравитесь!»… И когда я приду, когда явлюсь, наконец, к дому мятежному, – коленам непокорным, – я, как обещано, подниму ее из мертвых, – эту женщину с лебединой шеей, эту женщину, которая боялась темноты и пули, но не устрашилась лица своего народа.
Так скажем же словами искупительного обряда:
«Сыны человеческие, обитающие во мраке и в тени смерти, закованные в страдание и железо… утратившие разум в греховности своей, страдающие из-за беззаконий своих, – любую пищу отвергает душа их, и приходят они к вратам смерти…
И если есть у человека ангел-заступник, хотя бы один на тысячу, то пусть молвит слово в его оправдание, и скажет: „Сжалься над ним, ибо вот за него выкуп“.
Это замена моя, это подмена моя, это искупление мое».
Подмена и искупление мое.
Искупление мое.
Искупление.
1995–1996. Иерусалим
Хоб рахмонэс – будь милостив (иврит).
Мизрах – презрительная кличка восточного еврея.
Шабат – это суббота, святой день у иудеев.
Олим – новые репатрианты (букв. «поднявшиеся») (иврит).
«Досы» – презрительная кличка ультраортодоксов.
Джинджи – рыжий.
«Слушай, Израиль! Господь Бог наш, Господь един!» (иврит).
Ишув – поселение (иврит).
Егудим – евреи (иврит).
Хуц ми Тора эйн лану клюм! – Нет у нас ничего, кроме Торы! (иврит).
Ие-е-еш!! – (букв.) есть! – вопль радости.
«Коэлет» – «Экклезиаст».
Иешуа Бин-Нун – Иисус Навин (иврит).
Чек «дахуй» – отложенный чек.
Эль-Кудс – арабское название Иерусалима.