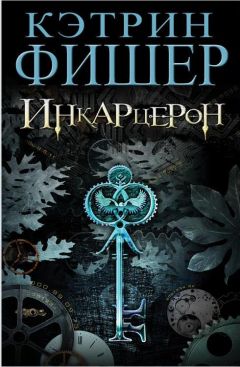«Мы будем с Максом постоянно мониторить Никодимчика. Спасибо тебе за все, родная».
Ашка взяла с ночной тумбочки щетку и причесала его в дорогу.
«Да-да, старайтесь его постоянно мониторить. Благодарю тебя за все».
Триста двадцать одна страница на компьютере iBook G4. Делаю бэкап и откидываюсь в кресле. Приближается финал, а я, как всегда, не знаю, чем все кончится, да и кончится ли это вообще. Недавно случилось мне в Херсонесе побывать на спектакле «Бог» по мотивам одноименного фильма Вуди Аллена. Вместо Манхэттена все разыгрывалось в руинах античного амфитеатра, и вся дюжина московских актеров была в древнегреческих одеяниях, за исключением потаскушки из Уфы, которая носилась по камням в мини и туфлях-шпильках. Действие было скорее спонтанным, чем хорошо отрепетированным. Публика изнывала после трех часов отсебятины и похабщины, а труппа все не знала, как кончить. Наконец кто-то вырубил свет, и все разошлись. Надеюсь, что у нас в романе все-таки не произойдет ничего подобного.
Читатель, должно быть, заметил, что автор, включенный в сюжет, в силу своего спонтана постоянно находится на грани самопровокации. Достаточно уже сказать, что оригинальное название «Тамарисковый парк», которое возникло в связи с задумчивыми прогулками по тамарисковым аллеям, через полсотни страниц было подвешено на крюке вопросительного знака и вскоре превратилось из титула сначала в название файла, а потом в первую главу. «Редкие земли» выскочили только после того, как число страниц перевалило за сотню, когда понадобилось заменить нефть и газ на что-то необычное и космическое.
Иные авторы, еще не начав писать, детально прорабатывают композицию. Наш автор-персонаж, с ходу, под настроение, наваляв десяток страниц, замечает «ну, повело!» и только тут спотыкается в раздумье. Смутная идея витает вокруг головы, не проникая. Вдруг вспоминаются 70-е годы. Молва приписывала ему авторство двух приключенческих детских книг, то есть дилогии. Многие тогда наседали: «А почему бы тебе не написать третью, почему не создать трилогию?» Он ухмылялся, но не отнекивался. А почему бы и нет? Почему бы не протащиться? Вот только создам полтора десятка основных опусов, тогда уж и за детское возьмусь. И вдруг спотыкаюсь в тамарисковых аллеях: пора пришла! Повело-кота-на-мыло!
Минуло тридцать лет, и тому герою сейчас сорок два. Тот мальчик, что появился на начальных страницах, не он. Это его сын, а сам герой… что он делает через тридцать лет? Как что, он сидит в тюрьме. Происходит изменение имен: Геннадий становится Геном, Наташка Ашкой, смешные Стратофонтовы становятся суровыми Стратовыми; давние персонажи будут отдаленными прототипами. Рушится социалистическая империя. Самораспускается комсомол.
С каждой страницей появляются новые лица, и вот наступает момент, когда автор отпускает вожжи. Он уже не в силах натягивать. Что можно ожидать от союза, который самораспустился? Разбежался от отсутствия идеологии-веры, от жажды баночного пива, денег и гражданского общества, в котором каждый ходит с неравномерно толстым бумажником, а лучше всех ходят те, у кого потолще. Каждый тянет в свою сторону, и автору ничего не остается, как стать одним из них, седлать осла и спать с почти реальной киноактрисой.
Сейчас, по прошествии трехсот двадцати одной страницы, нужно откинуться в кресле и сообразить, что происходит со строптивцами. Откуда, например, взялся тот, кого позднее назвали Пришельцем лишь за то, что глаза у него имели свойство иной раз выходить из орбит и висеть в пространстве, предваряя голову? Да и вообще, разве он кому-нибудь нужен, этот Макс Алмазов, который чуть не угодил в убийцы, но отшатнулся, чтобы стать Хранителем дитяти?
Ну вот еще пример. Как могло случиться, что преданная и единственная возлюбленная Гена превратилась в сущую Мессалину-Титанию? Мы вряд ли поймем эту трансформацию, если не вспомним их свадьбу в воздухе над Флоридой, когда перед парашютным прыжком у Ашки впервые мелькнула мысль об измене. Что касается Гена, какая нелегкая его занесла в Африку, что побудило его мечтать о повторении подвигов Альбера Швейцера, почему вдруг произошло резкое, как в баскетболе, движение с последующим прорывом и невозвращеньем, как случилось ему оказаться на полусекретной конференции по редким землям, да и вообще откуда они взялись, все эти иттрии, церии, самарии, неодимы, европии, тербии, лантаны, скандии, гадолинии, диспрозии, празеодимы, гольмии, эрбии, тулии, иттербии, лютеции и миш-металлы, да и вообще с какой целью они тут объявились, если только не с желанием переменить ось философского вращения; и почему тогда всплыл волшебный Габон?
Теперь я сидел один после целого дня сутулой работы. Глаза устали. Зад ныл. Еще не завершив дела, я испытывал послероманный синдром с его бриллиантом — кружением мысли. Светила полная Луна. Никогда не знаю, как ее писать в таком контексте, с большой или с маленькой буквы. Я вышел на террасу. Там стоял Дуран Мароззо. Увидев меня, нисколько не удивился — дескать, сам удивляйся, увидев меня, — однако начал интенсивно махать хвостом. Я притащил ему пучок очищенной моркови: нечищенную морковь скотина не ест. При поедании очищенной моркови скотина хрумкает, в разные стороны расплевывает непрожеванное и становится похожа на какие-то вопиющие портреты первого десятилетия художественного кино. Тем временем я его седлаю, подтягиваю то, что Шолохов называл «подпруги», а я не называю никак, и по окончании его ночной трапезы сажусь на скотину верхом.
Осел трусит по спящему городу, я покачиваюсь в седле. Насвистываю что-то из Элвиса Пресли, чтобы не заснуть, чтобы не сыграть с осла. Ночные люди, то есть клошары, лунатики, а также «полис мунисипаль», давно привыкли к зрелищу старого эмигранта верхом на чужеземном животном и не обращают на нас никакого внимания, тем более что в какой-то момент мы исчезаем с поверхности и начинаем спуск к морю по дорожкам тамарискового парка. Дуран Мароззо временами останавливается, чтобы пожевать тамарисковой хвои или поссать. Я не понукаю его, а скромно сижу на нем в своем пончо, в лунных пятнах, пытаясь вспомнить кое-какие романные мизансцены. Вот здесь они весело бежали вдвоем, стараясь поскорее достичь своей каменной скамьи. А третий вон там стоял в камуфляжной майке, светясь своим ненавидящим взглядом, предвосхищая теракт. А может быть, надо было ту парочку оставить вон там, на деревянной скамье, в процессе сексакта, а ревнивца прогнать через чащу в прострации и тоске? Нет, кажется, все было совсем не так, и они, те трое, поступили как-то иначе, без всякого уважения к словесной природе движений, а лишь подчиняясь импульсам юности.
Спуск завершается, и мы выезжаем со склона на нижнюю набережную, в конце которой зиждится огромный «Шато Стратосфер». И тут мое летоисчисление начинает буксовать.
Сколько времени я это писал: год или десятилетие? Или трусил на своем осле вровень с событиями? Смотрю на темные стены и окна жилых помещений и на освещенный несколько мертвенным светом «Ангар». Испытываю глубочайшую печаль. Кажется, здесь произошли какие-то непоправимые события. В мире большого бизнеса что-то сдвинулось, и Франция отказалась от дружбы с «Таблицей-М». Я приближаюсь верхом на Дуране Мароззо и вижу, что мои предположения вроде бы оправдались. Поместье дерзостных олигархов окружено джипами силовых структур Пятой республики. Запечатан въезд в подземный гараж. Агентура проводит недреманное наблюдение, хотя пока что не препятствует ни входу в «Ангар», ни выходу оттуда. Цокая своими четырьмя копытцами, мы проникаем в огромное помещение.
Там кишит какая-то деятельная и не очень приятная толпа. Активисты какого-то молодежного движения снимают со стен портреты Микки Крутояра. Туристические группы из различных регионов России и Европы фотографируются на фоне эстетически все еще превосходных экземпляров технологии La Belle Epoque. Антиглобалисты евразийских центров проводят фестиваль кулинарного суверенитета. Арабские женщины в бурках призрачно двигаются то там, то сям, словно не успевшие еще разродиться куколки. Время от времени со сводов доносятся невнятные, но громогласные предупреждения. На всем этом фоне, не обращая ни на кого никакого внимания, работают несколько съемочных групп художественного кинематографа.
Я сижу, не двигаясь, на своем осле, и меня тоже никто не замечает, все только обтекают. Вдруг я вижу, как от одной камеры к другой движется весьма пластично не кто иная, как Таня Лунина. И тут вспоминаю, что она сейчас снимается одновременно в двух фильмах — в одном играет свою полную однофамилицу, а в другом Леди Эшки Стратову. Дуран Мароззо поднимает башку, норовит разразиться своим скандальным иа-иа-иа. Я пресекаю скандал и снимаю шляпу перед supporting star романа и главной героиней фильма по роману. Она в этот момент пользуется пятиминутным перерывом, чтобы перевоплотиться из одного образа в другой; не знаю уж, из какого в какой.