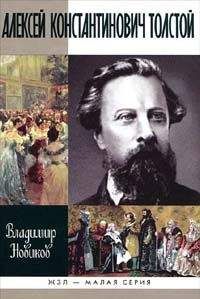Пути, «вехи будущих изысканий» установлены. «Открытие» XVIII века состоялось.
В двух статьях Гуковского на французском языке речь идет о рецепции творчества Расина в XVIII веке. Если первая статья (подзаголовок — «Критика и переводчики») посвящена выяснению вопроса о степени влияния Расина в России (рассматриваются тексты от «Нового и краткого способа к сложению российских стихов» Тредиаковского (1735) до вышедшей в 1805 году «Федры» в переводе В. Анастасевича), то во второй статье (подзаголовок — «Подражатели») исследуется уже проблема конкретного, реального влияния расиновских трагедий на русские сочинения — прежде всего на пьесы Сумарокова и Хераскова.
Положения, выдвинутые в очерках Гуковского, в той или иной степени стали классикой отечественного литературоведения, и нам иногда сложно понять, насколько новаторский характер они имели в 20-е годы. Прочнее же всего укоренилась концепция противостояния ломоносовского и сумароковского направлений, существования особой «школы Сумарокова». Разумеется, схема эта так или иначе нуждается в корректировке, и она корректировалась (например, в исследованиях Л. В. Пумпянского — в частности, по поводу функции «парения» в стихах Ломоносова, или в статье П. Н. Беркова «Жизненный и литературный путь А. С. Сумарокова», или в недавней (1992 год) работе М. С. Гринберга и Б. А. Успенского «Литературная война Тредиаковского и Сумарокова в 1740-х — начале 1750-х годов», где говорится, что «едва ли не центральное место» в литературной борьбе середины XVIII века занимает полемика Тредиаковского и Сумарокова…)
Но при всем том концепция Гуковского до сих пор действенна и актуальна. Это отмечал и Ю. М. Лотман в 1959 году: «Данный Г. А. Гуковским анализ художественного метода Сумарокова широко вошел в исследовательскую литературу и в основном сохраняет свой кредит и в настоящее время» (Лотман здесь, разумеется, имеет в виду и более поздние работы ученого). Очевидно это и сейчас, и, как замечает современный исследователь, «эта концепция в основном выдержала испытание временем» (А. Зорин).
Заметим, что концепция эта так или иначе уже существовала со второй половины XVIII века. Так, например, Александр Грузинцов писал в 1803 году: «К сожалению России, сии два Гения [Ломоносов и Сумароков] разделялись несогласием, чему нигде и ни в какое время быть не долженствовало. Гений, изторгши из невежества г. Ломоносова, невероятною силою прямо вознес его на Геликон. Нужно было для г. Сумарокова советоваться с Лириком, а не ссориться; вот главная черта, которая их устыжает больше, чем литературныя их ошибки». И не поспоришь.
Осмелимся не согласиться с В. М. Живовым, полагающим, что молодому Гуковскому, в отличие от его старших современников-коллег (Тынянова и Якобсона), не свойственна «сомнительная дискурсивная практика» «перебрасывать мостик» от авторов изучаемой им эпохи к современной словесности — к «литературному сегодня». Помимо того, что вряд ли эту «дискурсивную практику», составляющую одну из характерных черт формализма, имеет смысл называть «сомнительной» и не слишком «исторически оправданной», она к тому же, как представляется, достаточно важна и для Гуковского. Сам Живов указывает на слова Гуковского: «…общий эмоциональный тон, пафос, присущий той молодой, бодрой эпохе, — должен радостно и желанно восприниматься современным читателем…» Как представляется, эти слова не просто «отголосок» формалистских идей, но и определенная позиция, во многом связанная все с той же проблемой «открытия» литературы XVIII века. Примечательно, что позиция эта, несколько отличающаяся от тыняновской, не столь очевидным образом проявляется и в отдельных статьях Гуковского. Для примера вернемся к характеристикам двух поэтических систем, которые дает Гуковский. Систему Ломоносова отличает «высокая речь, оторванная от привычного практически-языкового мышления», «моменты описания, из которых вытравлена конкретная образность», «Ломоносов… подчас доходит до туманностей»; Сумароков же, по Гуковскому, напротив, ратует за «легкое восприятие и верную передачу сущности данного психологического состояния», «[д]ля него слово это как бы научный термин, имеющий точный и вполне конкретный смысл; оно прикреплено к одному строго определенному понятию», «[о]твлеченный, астральный восторг Ломоносова покинут, хотя основной стихией поэзии является лирика». Как нам представляется, в этих характеристиках Гуковский, специально не проговаривая, отсылает читателя к современной ему литературной ситуации — к относительно недавним полемикам символистов и акмеистов. Хотя в действительности расхождения между этими двумя направлениями начала ХХ века не всегда и не во всем были жесткими, однако очевидно, что современниками они подчас воспринимались как две различные литературные программы. И определения, которые дает Гуковский системам Ломоносова и Сумарокова, очень напоминают критические выступления 10-х годов ХХ века — вспомним, например, статьи В. М. Жирмунского «Преодолевшие символизм» 1916 года («взамен мистического прозрения в тайну жизни — простой и точный психологический эмпиризм, — такова программа, объединяющая „гиперборейцев“») и «Метафора в поэтике русских символистов» (с которой Гуковский мог быть знаком) или манифесты и рецензии акмеистов.
В пользу предположения о своеобразном «перекидывании мостика» в работах Гуковского свидетельствует и взгляд ученого на собственное научное творчество, его стремление к созданию открытой, «эмоциональной» науки. В письмах к Евгении Яковлевне Ленсу, опубликованных Д. В. Устиновым в № 4 (44) «Нового литературного обозрения» за 2000 год, Гуковский писал: «Ведь и мне… очень свойствен такой путь мысли: от воображения, от эмоции к мысли, а не наоборот». Это восприятие литературы через воображение, отношение к литературному процессу как к живому организму проявлялось и в мелочах — Алексей Алмазов в очерке «Гуковский и „западники“» вспоминает, как однажды Гуковский проводил консультацию для студентов: «Он сразу взял тон непринужденной дружеской беседы, легко переходил от темы к теме, отвлекался в сторону, сыпал острыми и неожиданными формулировками: „Ломоносов, конечно, понимал, что Анна Иоанновна тоже не компот“. „Когда говорят о ’Новой Элоизе’, у меня поднимается температура“». Отношение к литературному процессу как к чему-то бесконечно увлекательному и создает «ощущение живой сопричастности своему предмету», отмечавшееся многими и сохранившееся и в поздних работах.
И трудно согласиться с Ю. М. Лотманом, заметившим в письме 1984 года, что «уже нельзя читать Гуковского, кроме самых ранних работ», равно как и с В. М. Живовым, полагающим, что «[х]ронос поторопился расправиться с теми трудами почтенного автора, которым присуща характерная колористическая гамма сталинской эпохи». Вряд ли можно говорить и о безусловном «добровольном компромиссе» Гуковского в 30-е годы — все гораздо сложнее и неоднозначней (см., например, мемуары Ленсу, заставляющие вспомнить позицию О. Мандельштама 30-х годов, описанную М. Л. Гаспаровым: «Пора вам знать, я тоже современник»). «Г. А. Гуковский умел намечать для себя далеко идущие перспективные дороги, — писал Лотман уже в начале 90-х годов. — …В нем были два человека: один как будто точно знал, куда идет литература, и готов был ее учить, другой всегда стоял на пороге двери, открытой в неизвестность, и готов был заново учиться. Именно этот второй Гуковский был наиболее плодотворен для своих учеников…» Это замечание способно многое объяснить. Кажется, что «гамбургский счет», предъявляемый Гуковскому Живовым, в этом отношении неуместен. А о том, что «хронос» все же не «расправился» с поздними работами ученого, свидетельствуют недавнее переиздание его учебника 1939 года «Русская литература XVIII века», а также ссылки на эти работы — в том числе и в блестящей книге В. М. Живова «Культурные конфликты в истории русского литературного языка XVIII — начала XIX века».
В последнее время вышло несколько ярких работ, задающих новые перспективы в изучении XVIII века, — исследований, совершенно различных и по подходам, и по отбору материала. Назовем монографию В. Д. Рака «Русские литературные сборники и периодические издания» (СПб., 1998), посвященную переводной литературе второй половины XVIII века, книгу В. М. Живова «Язык и культура в России XVIII века» (М., 1996), книгу А. Л. Зорина «Кормя двуглавого орла» (М., 2000) и, наконец, долгожданное издание «Сборника трудов по истории русской литературы» Л. В. Пумпянского (М., 2000). В этом контексте переиздание работ Гуковского становится особенно актуальным, и, без сомнения, справедливо замечание Живова: «Фундаменты, как мы знаем, изнашиваются и требуют обновления, но для этого занятия существующую конструкцию надо обследовать. Эта надобность и побуждает переиздавать ранние работы Гуковского». Вместе с тем приходится признать, что долгожданного издания Гуковского мы так и не получили. В рецензируемом томе, лишенном именного указателя, включающем непереведенные французские статьи, только вступительная полемическая статья Живова действительно посвящена обновлению фундамента. Между тем совершенно очевидно, что требуется новое, комментированное издание работ Гуковского — и ранних, и поздних: такое издание, с пространными комментариями (как, например, в сборнике работ Ю. Н. Тынянова «Пушкин и его современники»), со сверкой цитат, и вправду могло бы выполнять роль фундамента, и общая «муравьиная работа» от этого только бы выиграла.