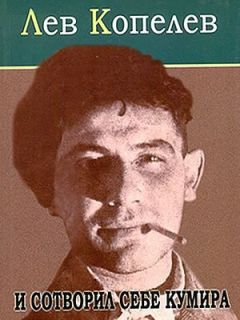„Широкий быстрый шаг“ стал и нашим кошмаром, и нашей гордостью.
Командовал полком бывший кавалерист, черно-смуглый, кривоногий. В первый день он представился нам:
— Мое фамилие Ургатаури. Я сам с Кавказа, из такого народа, что вы даже не слышали. Очень, очень маленький народ; только двенадцать тысяч душ есть. Но все за Советскую власть. В гражданскую войну все наши джигиты — это значит мужчины — были красные конники.
Комполка (тогда еще не было офицерских званий), заметив небрежно заправленную койку, невыметенный мусор, говорил сопровождавшему его дежурному неизменно ровным голосом:
— Товарищ дежурный, запишем: командиру взвода мое замечание. И чтоб доложил, какое взыскание даст бойцу, который делает такую безобразию. Записали? А вы доложите командиру роты, чтобы наложил взыскание на дежурного — значит, на вас — за то, что показывали командиру полка такую безобразию, не догадались убрать раньше… Понятно? Ну, а если понятно, почему не повторили приказания? И еще доложите, что забыли повторить приказание. Но за это взыскания не надо, а пусть ему, командиру роты, будет грустно, а вам будет стыдно.
Он тоже иногда приходил в ленпалатку и поучал нас, все так же негромко, без тени улыбки, только чуть щурился, когда мы хохотали.
— Вы должны ходить лучше, чем кони-лошади. А почему? А потому, что кони-лошади не такие сознательные. Лошад не принимают в комсомол, не принимают в профсоюз. Лошад может быть очень умный, но не может быть студент и иметь политическую сознательность. А вы все студенты. Имеются члены профсоюза. Имеются многие члены Ленинского Комсомола. Значит, вы должны быть политически сознательные. Должны ходить быстрее, чем кони-лошади. Чтоб завсегда 130 шагов минута, и когда надо скоростной марш-бросок 170–180 шагов минута. Это есть ваша святая заповед. Красная Армия должна быть самая быстрая армия на весь мир. Наша дивизия самая быстрая дивизия на всю Красную Армию. Наш полк самый быстрый на вся дивизия. Значит, если вы будете самая быстрая рота на полк, вы будете самые быстрые бойцы на весь мир… Это будет очень большая приятность для ваши отец и мать и девушка…
В то лето я очень старался быть хорошим бойцом и очень хотел стать хорошим командиром. Ежедневно выкладывался на спортивной площадке; скрывал хвори и к концу лагерного сбора получил значок „Ворошиловского стрелка“ и звание помкомвзвода — три треугольника в петлицах.
Но, вернувшись в Харьков, опять свалился с тяжелым приступом колихолицистита. И опять болезнь помогла образованию. За несколько недель в постели я законспектировал два тома „Капитала“, „Малую логику“ Гегеля, зубрил математику, физику; выздоровев, сдал все сессии за второй курс и перескочил сразу на третий.
…Шла партийная чистка. Ежедневно в самой большой аудитории старого здания заседала комиссия. Каждый желающий мог придти, задавать вопросы, высказывать свое мнение о том, кто проходил чистку. Комиссия оглашала те письменные заявления, иногда и анонимные, которые считала нужным проверить публично. Большую часть нашей газеты стали занимать отчеты о ходе чистки и заметки о разоблаченных перерожденцах, обманщиках, скрывавших свое происхождение или былые грехи, очерки о достойных коммунистах, чьи заслуги и добродетели были подтверждены проверкой.
Когда чистили нашего редактора, он стоял на трибуне, смущенный, растерянный, а ему из зала задавали вопросы о неправильно поставленных отметках, о квартирной склоке, о каком-то родственнике — нэпмане. Потом вышел к трибуне сотрудник редакции городской газеты, который стал рассказывать, что наш редактор писал „политически ошибочные статьи“, восхвалял каких-то недавно разоблаченных физиков-идеалистов и даже вовсе буржуазных, иностранных ученых.
Тогда и я попросил слова и стал защищать идеологическое целомудрие нашего редактора, доказывал, что его обвинитель злонамеренно искажает факты, выдает за восхваление простую информацию о зарубежных научных работах, своей демагогической болтовней о бдительности проповедует невежество…
На следующий день в редакционный подвал вошел некто в темносинем френче и сапогах, пожилой, уныло серьезный, то ли партработник районного масштаба, то ли преподаватель истории партии.
Он положил на стол несколько листов бумаги, исписанных крупным почерком с завитушками. (Одно время я увлекался графологией и считал, что такие завитушки свидетельствуют о тщеславии, самодовольстве, умственной ограниченности.)
— Это надо передовой в следующий номер.
— Передовые у нас пишет ответственный редактор, а следующий номер уже в машине.
— Ваш редактор еще не прошел чистку. Хотя у него и очень языкастые защитники, но комиссия еще не приняла решения. А этот материал нужно давать немедленно. Так что машину придержите.
Листки были заполнены стандартными фразами о партийности, бдительности, о благотворных последствиях чистки, призывами повышать, углублять, усиливать… Подпись — Блудов — мне ничего не говорила.
— Не вижу причин, чтобы останавливать машину, задерживать номер. В нем серьезные конкретные материалы о чистке, а тут одни общие фразы.
— Вы слишком много себе позволяете. Это партийные установки, а не фразы. А вы — наглый мальчишка, вы еще не знаете, с кем дело имеете, сопляк!
— Нет, знаю с кем. С набитым дураком… И в полумраке было заметно, как взблеснули его тусклые маленькие глаза. Взблеснули злобно и удивленно.
— Ах, вы так разговариваете?! Ну вы еще пожалеете, очень пожалеете!
Он сунул листы в карман и ушел.
На следующий день я узнал, что это был новый ректор университета. Прежнего уже вычистили. Друзья из университетского комитета комсомола советовали мне пойти извиниться, либо даже лучше написать письмо: „Простите, не знал, закрутился, распсиховался“… Но я не хотел. Ведь он первый начал ругаться. И спор был не идеологический, не политический. Обыкновенная свара, как в трамвае, и к тому же наедине.
Наш редактор благополучно прошел чистку. И вскоре докладывал новому ректору о газете. Тот ничего ему не сказал о стычке со мной. Дал ту же самую статью. И она, разумеется, была напечатана. Мы сочли, что „инцидент исперчен“.
Шли последние ноябрьские дни 1934 года.
Холодный сумрак нашего подвала стал мне привычен. Случалось, я назначал там свидания девушкам. Иные пугались:
— Ой, неужели тебе здесь не бывает страшно? А если бы двери запереть? Я бы, наверно, с ума сошла, если бы тут одна осталась.
Такие испуги — и настоящие и тем более нарочитые — приятно ускоряли и усиливали близость.
Кто мог бы тогда предсказать, что холодное дыхание тюрьмы, которое я впервые ощутил весной 29-го года и так бездумно воспринимал в подвале университета, просквозит через все последующие годы, то неслышно, гнилостно расползаясь моровой язвой, то взвывая в удушливых смерчах, круша, губя, испепеляя миллионы жизней, что это мертвенно-холодное дыхание нагонит меня уже на фронте, за Вислой, и скует на много лет.
Убит Киров. После 2 декабря 1934 года газеты были начинены гневными и скорбными словами, проклятьями, заклинаниями, призывами к мести, к бдительности…
Правительственное постановление: судить террористов без права апелляции, немедленно расстреливать. Опубликованы списки расстрелянных „в порядке возмездия“. В одном из них трое Крушельницких — дядя и двоюродные братья известного артиста Харьковского театра, политэмигранты из Польши; еще несколько знакомых имен западно-украинских коммунистов…
Это означало террор. Неужели опять массовый террор, как в 1918 году после убийств Урицкого и Володарского, после покушения на Ленина?
В мире вокруг нарастала тревога. Гитлеровцы были уже почти два года у власти. Окрепли. Японцы все глубже проникали в Китай. Война приближалась и с Запада и с Востока… А мы едва начали приходить в себя после голода. Только что ввели продажу „коммерческого“ хлеба, без карточек. На ХПЗ еще не отладили выпуск новых типов БТ. Еще не достроили три больших цеха.
И вот, оказывалось, у нас в стране возникло новое контрреволюционное подполье. Хотят истребить наших вождей.
Значит, необходим террор.
Сообщение о том, что убийцу Кирова направляли зиновьевцы, поразило и испугало. Но я поверил. Еще и потому, что помнил одну из листовок оппозиции в феврале 29 года, перед высылкой Троцкого. Квадратик бумаги со слепым шрифтом: „Если товарища Троцкого попытаются убить, за него отомстят… Возлагаем личную ответственность за его безопасность на всех членов Политбюро — Сталина, Ворошилова, Молотова, Кагановича, Калинина, Кирова, Куйбышева, Рудзутака…“
И еще помнил Мосю Аршавского, который в марте 1929 года представился:
— Я из Харьковского молодежного центра большевиков-ленинцев.
Долговязый, тощий, коротко остриженный, он никогда не улыбался, брезгливо презирал „хлипких интеллигентиков“, „дрейфующих либералов“, „бумажные души“, „кабинетных вождей“. Так он честил Зиновьева, Каменева, Преображенского, Радека и других лидеров оппозиции.